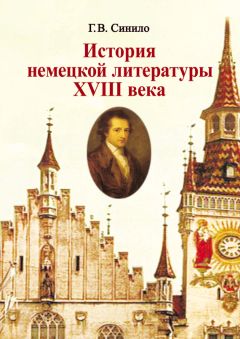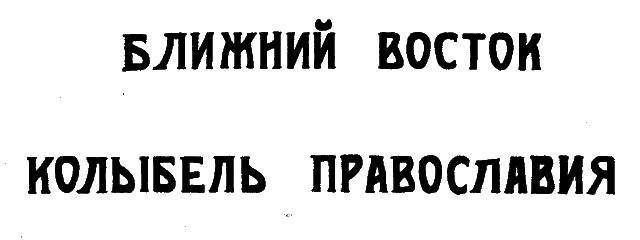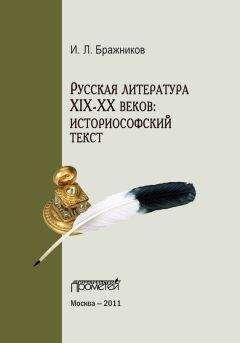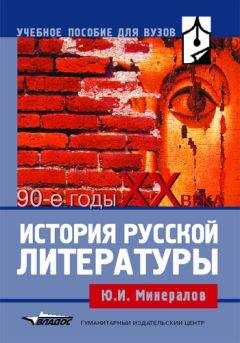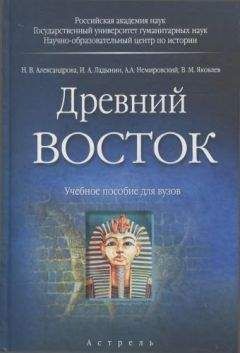Галина Синило - История мировой литературы. Древний Ближний Восток
Атрахасис начинает готовится к потопу, который, как открыл ему Энки, будет длиться семь дней и семь ночей. При этом герою как-то нужно мотивировать строительство корабля и свое отплытие вместе с семьей из города, и он сообщает старейшинам, что гневаются друг на друга Энлиль и Энки и что его изгоняют из города (вероятно, Ниппура) за то, что он поклоняется Энки: «Не могу я жить во граде вашем, // Не могу ступать по земле Энлиля. // Может ли смертный спорить с богами? // Вот что сказал мне владыка мой Энки» [80]. Таким образом, герой, претерпев большую эволюцию по сравнению с шумерским Зиусудрой, что выражается прежде всего в заботе о людях, в неоднократных и успешных попытках их спасти, перед потопом думает только о спасении себя и своих близких и вынужден обманывать верящих ему людей. Сограждане, благодарные Атрахасису за его прежние благодеяния, стараются во всем помочь ему: «Старейшины словам его вняли. // Со своим топором приходит плотник, // Камень свой несет строитель. // Даже малыш смолу таскает. // Даже бедняк несет, что может» [81]. Наконец Атрахасис готов к испытанию. Перед отплытием он созывает горожан на прощальный пир, а семью и родню поднимает на борт корабля, где уже находятся все животные, подлежащие спасению. Древний текст удивляет психологизмом в изображении мучений Атрахасиса, который отчетливо сознает, что пирующие с ним люди погибнут, они же этого не понимают: «Они ели яства, // Они пили напитки. // Он же спускался и поднимался. // Сесть не мог он, и лечь не мог он. // Разрывалось сердце, желчью рвало» [81].
И вот погода начинает портиться, приближается буря («День начал менять лики. // Загремел Адад в черной туче» [81]), и Атрахасис понимает, что настало время замазать смолой все отверстия в корабле. Начинается потоп, описанный в поэме динамично и экспрессивно:
Вздымается ветер, несет бурю,
Адад на ветрах, своих мулах, мчится —
Восточном, Западном, Северном, Южном.
Ураганы и бури завыли пред ним,
Злобный вихрь взметнулся ветрам навстречу,
К нему вздымается Южный ветер,
Западный ветер трубит рядом.
[…………………………………………………….]
Колесницей богов ураган несется,
Мчится вперед, убивает, молотит.
Идет Нинурта, открывает плотины,
Эррагаль якоря и столбы вырывает.
Анзуд[500] разрывает когтями небо.
Разум страны, как горшок, расколот.
Поднялись воды, и потоп вышел.
Его мощь прошла по людям, как битва.
Один не может увидеть другого,
Узнать друг друга в уничтоженье.
Как дикий бык, потоп бушует,
Как ревущий осел, завывает ветер. [82]
Потоп столь страшен, что сами боги дрожат от ужаса, трясутся, как в лихорадке, наблюдая картину гибели мира: «Шум потопа дрожать богов заставил. // Энки! Его помутились мысли, // Как сыны его пред ним поверглись! // Нинту, величайшая из владычиц – // Тряслись в лихорадке ее губы!» [82]. Именно Мами-Нинту, вместе с Энки сотворившая людей, больше всего переживает из-за их гибели и проклинает тот день, когда она дала опрометчивую клятву, погубившую род людской. При этом Мами-Нимту упрекает остальных богов, особенно Ану, за необдуманное, неразумное решение:
Да померкнет день тот,
Во мрак да вернется!
Как могла я вместе со всеми богами
В совете решиться на гибель мира?
Насытился Энлиль постыдным приказом?
<…> Где же был Ану и его мудрость,
Когда боги, сыны его, речам его вняли?
Что, не подумав, потоп устроил,
Приговорил людей к истребленью! [82–83]
Мами-Нинту горько оплакивает людей, которыми, «как стрекозами, запрудили реки», и землю, которую перевернули, как лодку (дословно – «плот», «плоский челн»), «как лодчонку в степи вверх днищем поставили!» [83]. Остальные боги, сгрудившись возле Мами-Нинту, почти обезумели – не только от ужаса, но и от голода, и уподобляются древним поэтом овцам, сбившимся возле кормушки: «Когда села она, и они в слезах сели. // Словно овцы перед кормушкой, сгрудились. // В лихорадке от жажды пересохли губы, // От голода судороги сводили» [83]. Боги и хотели бы прекратить потоп, но уже ничего не могут поделать, пока он не отбушует всласть. Результаты бедствия сообщены предельно лаконично и страшно: «Там, где прошел потоп войною, // Все уничтожил, превратил в глину» [84].
После окончания потопа (в этом месте поэмы повреждено около 60 строк) Атрахасис приносит жертвы «на четыре ветра», т. е. на четыре стороны света, воскуряет ароматы богам и готовит им пищу. Как говорит поэт (и в этих словах нельзя не почувствовать иронии), «боги почуяли благовонный запах, // К приношению, словно мухи, собрались» [84]. При этом к жертвенной пище подходит и проголодавшийся Энлиль. Его гневно упрекает Мами-Нинту: «Как? И Энлиль приблизился к жертве? // Потоп устроили, не подумав, // Приговорили людей к истребленью! // Вы решились на гибель мира!» [84]. Энлиль же, обнаружив уцелевший корабль, по-прежнему впадает в гнев и ругает Энки за разглашение его приказа. Однако Энки отвечает, что решение совета было неразумным и что он сознательно спас жизнь: «Воистину, дело мое перед вами. // За спасение жизни я в ответе. // Где же, боги, был ваш рассудок, // Что, не подумав, на потоп решились?» [85]. Особые слова упрека Энки обращает к Энлилю и говорит, что он готов понести наказание, если совет богов признает его, Энки, действия неразумными, но, возможно, виноват прежде всего Энлиль: «Сердце свое успокоил ты, Энлиль? // Смягчил ли ты свою ярость ныне? // Виновный да примет свое наказанье! // И тот, кто слова твои уничтожил!» [85]. Финал очень плохо сохранился, но, как можно понять, боги раскаиваются в содеянном, одобряют поступок Энки и восхищены стойкостью Атрахасиса: «Как мы потоп сотворили, // Но человек уцелел в разрушенье!» [86]. Не совсем ясно, что дальше произошло с героем поэмы, но, учитывая шумерскую версию и ту, которая изложена в «Эпосе о Гильгамеше», можно предположить, что боги даровали ему вечную жизнь. При этом, однако, речь в финале «Сказания об Атрахасисе» идет об ограничении впредь рождаемости у людей, о том, что праматерь Мами-Нинту должна создать «сторожей рожденья людям» [85], а какие-то женщины (определенные разряды жриц) вообще не должны рожать детей.
Таким образом, по сравнению с шумерским «Сказанием о Зиусудре» очевидно, насколько творчески вавилонские поэты переработали древний сюжет. Во-первых, вавилонская поэма отличается большей убедительностью мотивировок; во-вторых – большим психологизмом, особенно в изображении переживаний Атрахасиса; в-третьих – более детальным описанием подготовки богов и героя к потопу и более красочным описанием самого потопа; в-четвертых – большим акцентированием вины богов в бедствии; в-пятых – искусным соединением сюжета о потопе с рассказом о сотворении людей и о других бедствиях человеческого рода.
В «Эпосе о Гильгамеше» описание потопа также искусно вмонтировано в более обширное повествование и подчинено общему философскому замыслу: поискам героем смысла жизни и бессмертия. Сказание о потопе записано на XI табличке поэмы и вложено в уста непосредственного участника событий, пережившего потоп, – Ут-Напишти (букв. «нашел дыхание»; это имя – аккадский эквивалент шумерского имени Зиусудра – «нашедший жизнь долгих дней»). Действие происходит (в отличие от «Сказания об Атрахасисе») в городе Шуруппак (Шуриппак) на берегу Евфрата – там же, где жил «шумерский Ной». Вероятно, шумерская версия оказала самое прямое воздействие на автора или окончательного редактора ниневийской версии «Эпоса о Гильгамеше». И. М. Дьяконов, однако, полагает, что этот редактор вставил в поэму рассказ из «Сказания об Атрахасисе», но в сильном сокращении. «Он сделал текст лаконичнее, а вложив его в уста героя в виде прямой речи, придал ему большую эмоциональность»[501]. Здесь в большей степени акцентируется случайность спасения героя, вовремя оказавшегося за стеной какой-то хижины и услышавшего голос Эйи, который клялся вместе с богами в совете и поэтому может открыть тайну только «хижине» и «стенке», надеясь, что стена имеет уши, что за нею находится человек:
Хижина, хижина! Стенка, стенка!
Слушай, хижина! Стенка, запомни!
Шуриппакиец, сын Убар-Туту,
Снеси жилище, построй корабль,
Покинь изобилье, заботься о жизни,
Богатство презри, спасай свою душу!
На свой корабль погрузи все живое.
Как и в «Сказании об Атрахасисе», герой мотивирует необходимость своего отплытия из Шуриппака тем, что его ненавидит Энлиль (Эллиль) за преданность Эйе: «Я знаю, Эллиль меня ненавидит, – // Не буду я больше жить в вашем граде, // От почвы Эллиля стопы отвращу я. // Спущусь к Океану, к владыке Эйе!» [197]. Согражднам же Ут-Напишти обещает, что Эйя (или Эллиль) над ними «дождь прольет… обильно», что звучит трагически-двусмысленно. Точно так же, как Атрахасису, жители города помогают Ут-Напишти возводить четырехугольное судно, параметры которого точно указаны именно в «Эпосе о Гильгамеше»: каждая сторона его равна примено 60 м, высота бортов – также 60 м, а площадь – около трети гектара (параметры Ноева ковчега в Библии иные). Подробнее, нежели в «Сказании об Атрахасисе», описаны приготовления Ут-Напишти и все, что он берет на корабль. О сроке начала потопа его предупреждает бог солнца Шамаш, не упоминающийся в предыдущей версии, но зато фигурирующий в шумерской поэме (естественно, как Уту). Само же описание потопа весьма сходно в обеих вавилонских версиях, но в «Эпосе о Гильгамеше» оно вложено в уста очевидца, что, безусловно, усиливает его эмоциональное воздействие: