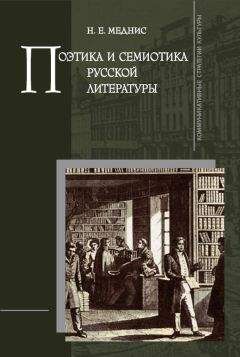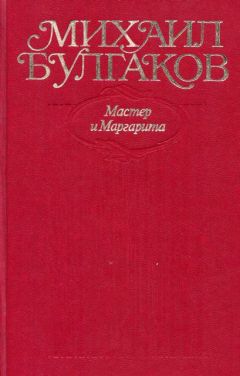Ольга Поволоцкая - Щит Персея. Личная тайна как предмет литературы
– Покойницы? Да разве она умерла?
– Эка дура! Да не ты ли пособляла мне вчера улаживать ее похороны?
– … Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца, воротился пьян, завалился в постелю, да и спал до сего часа, как уж к обедне отблаговестили.
Во сне Адриан прожил лишний день, улаживая похороны купчихи Трюхиной, и если бы ему не приснилась смерть этой Трюхиной, то у него не было бы реальных ориентиров, на основе которых можно было бы с уверенностью отрицать пир с мертвецами как реальность. Роль Трюхиной оказывается значительной в повести «Гробовщик» и спасительной для душевного мира Адриана. Если бы Трюхина, смерти которой так ждал гробовщик, в эту ночь скончалась, можно с уверенностью утверждать, что Адриан не был бы этому рад, ибо тогда все приснившееся утвердилось бы как реальность, а это в свою очередь означало бы, что все происшедшее с Адрианом во сне навсегда осталось бы тайной, невозможной для рассказа. Если бы Купчиха Трюхина в эту страшную ночь скончалась, то никогда бы не смог узнать Белкин сию интересную историю от приказчика Б. В., так как она никогда не смогла бы быть открыта гробовщиком миру живых людей. Только при условии полной уверенности самого гробовщика в том, что пережитый им кошмар – это всего лишь сон, возможен рассказ о нем.
Итак, и эта повесть содержит в своем счастливом конце обоснование возможности рассказать людям об этой истории. Нужно ясно понимать, что Белкин истории не сочиняет, а записывает только то, что действительно случилось. Чтобы рассказчику этой истории узнать то, что он рассказал Белкину, нужно, чтобы у первоистока самого этого предания стояла свободная воля, желание самого гробовщика рассказать эту историю людям. В том, что молчаливый и угрюмый Адриан, открывавший рот, только чтобы «запрашивать за свои произведения преувеличенную цену», разомкнул уста, чтобы рассказать этот сюжет людям, наверное, и содержится самое значительное событие и итог всех смыслов фабулы.
Ибо Адриан, молча продающий сосновый гроб за дубовый, и Адриан, рассказывающий миру об этом, – это два разных человека.
Событие, так потрясшее «нашего гробовщика», в его кругозоре может пониматься только как чудесное. Чудо вещего сна, грозно призвавшего Адриана-человека к покаянию перед людьми в своем рассказе-исповеди, является залогом того, что живое единство живых людей вновь будет восстановлено героем этой повести: кажется, можно не сомневаться в том, что отныне Адриан Прохоров будет честным ремесленником, а на новоселье у него попируют его соседи – немцы-ремесленники. Евангельское слово «предоставьте мертвым погребать своих мертвецов» чуть было не сбылось буквально для Адриана; спасительной для него оказалась возможность найти границу между жизнью и смертью, между ремеслом и человеком. У евангельской фразы есть продолжение: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие»[152].
Трудно себе вообразить, как сам Адриан рассказывал о случившемся с ним чуде, но коли этот герой открыл рот, то повод для этого должен был быть не менее значительным, чем благовествование, ибо истоком его слова было ощущение, что его жизнь оказалась точкой приложения Божественного Промысла небесных сил, спасших его от неминуемой гибели.
Разница между православным мастеровым в русском кафтане, безусловно полагающим отсутствие в факте смерти абсолютного конца жизни вопреки всей очевидности страшной эмпирики смерти, разложения, тления, и ренессансной фигурой шекспировского могильщика, философа-весельчака, для которого смерть очевидна как полный конец, как абсолютное уничтожение, – принципиальна. Однако без встречи «нашего» гробовщика с иной культурой, без столкновения с фактом осмеяния своей роли «басурманами» у Адриана не было бы возможности пережить коллизию самосознания так остро и драматически, что делает самого героя другим человеком. Итак, встреча культур происходит на уровне самой глубинной, сокровенной жизни нации, итогом этой встречи и явился пушкинский сюжет из простонародной жизни, обнаруживший в косном, угрюмом высокомерном православном мастеровом способность к преодолению собственной гордыни, а значит, способность к нравственному развитию.
Глава пятая
«Жених»: сюжет, композиция, смысл [153]
Написанный в 1825 году «Жених», то есть сравнительно раннее произведение А. С. Пушкина, уже проявляет тот подход к проблеме национального самосознания, который станет характерным для поэта в последнее семилетие его творчества.
Для поверхностного чтения фабула выстраивается таким образом: купеческая дочь Наташа, три дня пропадавшая неизвестно где, возвращается в семью, пережив какой-то ужас. Потом к ней сватается некто, в ком Наташа узнает того, кто прямо связан с пережитым ею страшным впечатлением. Наташа соглашается с волей родителей выдать ее замуж за богатого жениха, но просит устроить пир («суд на пир зовите»). Во время пира (суда) Наташа рассказывает свой сон о страшном злодеянии, суд народный признает Наташиного жениха виновным в этом злодействе – и жених оказывается казнен, а Наташа прославлена.
Возникает много вопросов, из которых главный: как была доказана вина жениха? Почему Наташа рассказывает о том, что с ней произошло, под видом сна? Читатель сказки резко неожиданно ощущает себя исключенным из числа тех, кому адресован этот рассказ, в тот момент, когда он «не видит» жеста, сопровождающего Наташины слова «А это с чьей руки кольцо?». Все участники сцены пира-суда являются свидетелями хотя и безусловно, но иррационально для читателя обнаружившей себя Правды. Читатель же чувствует свою полную несостоятельность понять, что произошло и как Правда была обнаружена. Казалось, что автору нужно было совсем немного добавить, чтобы удовлетворить детективный интерес читателя и чтобы фабула была приведена к развязке рациональным образом. Однако из общей логики пушкинского художественного мира следует, что ключ для понимания сказочных событий должен находиться внутри повествования и неумение прочесть то, что рассказано, должно преодолеть усилием «умного» чтения.
В пушкинистике существует разногласие по вопросу об определении жанра «Жениха».
Сам Пушкин собирался включить «Жениха» в сборник сказок под названием «Сказка о женихе» и тем самым предопределил понимание жанра этого произведения, тем более что внешняя фабульная основа у него идентична фольклорной сказке о женихе-разбойнике. Однако «Жених» внешне чрезвычайно похож и на литературные романтические баллады с фольклорной основой, подобные «Светлане» Жуковского. О чем бы ни шла речь в романтической балладе, ее сюжет всегда обусловлен действием сил таинственных, мистических: это могут быть всевозможные духи, демоны, призраки, живые мертвецы, русалки, горные девы, лесные цари и т. д. Все загадочные и невероятные события, несмотря на свою фантастичность, всегда имеют «балладное» объяснение в существовании «иного мира». Событие, воспетое в романтической балладе, по своей сути всегда есть точка приложения к обычной земной жизни людей сил невидимых, иномирных. Такое повествование имеет свои не особенно сложные законы: построенное на эксплуатации читательского интереса к непознаваемому, оно развивается таким образом, чтобы держать читателя в напряжении, делая его свидетелем таинственных событий, заставляя как бы самого пережить ощущение встречи с запредельным. Но когда баллада окончена, каждый ее читатель должен быть в состоянии ответить на вопросы: как, что и почему произошло, то есть «детективный» интерес должен быть удовлетворен, а иначе автор рискует быть обвиненным в неумении построить свой рассказ.
Пушкинский «Жених» провоцирует подобный интерес, но его не удовлетворяет: читателю не дано стать свидетелем того, каким образом на народном суде был уличен «жених», приходится довольствоваться знанием, что «вина доказана», и только. Слишком часто читателю Пушкина приходится слышать иронию в свой адрес от автора: достаточно вспомнить лирические отступления на эту тему в «Евгении Онегине», иронию в финале «Домика в Коломне», легкую усмешку по поводу «просвещенного читателя» в «Повестях Белкина»
и т. д. Подобная ирония слышится мне и в концовке «Жениха», когда, вместо ожидаемых разъяснений, автор наскоро оканчивает повествование:
Злодей окован, обличен
И скоро смертию казнен,
Прославилась Наташа,
И вся тут песня наша.
Сравним с концовкой «Домика»: «… больше ничего Не выжмешь из рассказа моего». Напрашивается мысль, что тайна Наташи, тайна ее трехдневного отсутствия в родительском доме, – это не умышленно ею скрываемая тайна, а тайна и для нее самой.
Три дня купеческая дочь
Наташа пропадала;
Она во двор на третью ночь
Без памяти вбежала.
Пушкин всегда абсолютно точен в выборе слов: «без памяти» в своем прямом смысле означает невозможность рассказа (невозможно рассказать о том, чего не помнишь или чего не понимаешь), и именно поэтому отец с матерью не могут добиться от Наташи ответа на свои вопросы. Психологический рисунок поведения Наташи говорит лишь о том, что ею пережит какой-то сверхъестественный ужас, буквально безумный; чтобы о нем рассказать, у героини нет языка, который бы адекватно выражал этот новый ее опыт.