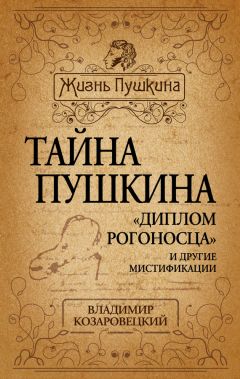Владимир Козаровецкий - Тайна Пушкина. «Диплом рогоносца» и другие мистификации
Летом 1835 года, несмотря на сопротивление царя, Пушкин добивается предоставления ему длительного (четырехмесячного) отпуска и уезжает в деревню. Формально он объясняет потребность в таком отпуске целью переселения в деревню, поскольку городская светская жизнь ему и его семье не по средствам (в письме Бенкендорфу он объясняет, что в Петербурге он тратит 25 000 в год и «за четыре года… сделал долгов на 60 000 рублей»). Но это только одна из причин поездки, и к тому же — не главная. Пушкин уже знает, что его единственным спасением от грозной болезни может быть только возврат к деревенскому образу жизни, при котором он чувствовал себя гораздо лучше, что именно после переезда в город болезнь ускорилась и что если и возможно ее приостановить, то только переехав в деревню. Вопрос был лишь в том, не слишком ли поздно он спохватился; эта поездка и должна была дать ответ.
Ответ оказался обезнадеживающим: болезнь зашла слишком далеко. Стало ясно, что он должен готовиться к уходу, чтобы не дать болезни приковать его к креслу паралитика. Переписка Пушкина этого времени проникнута тревогой этого знания; к этому же времени относятся и его самые отчаянные стихи о близкой смерти — «Родрик» и «Странник».
«Еще не было анонимных писем, — писал Лацис. — Но уже было ведомо: настали последние дни. Пришла пора исчезнуть. Надлежало тщательно замаскировать предстоящее самоубийство. На лексиконе нашего времени можно сказать, что в исполнители напросился Дантес. А заказчиком был сам поэт».
VI
В конце 1836 года Пушкин пишет для «Современника» мистификационный памфлет «Последний из свойственников Иоанны д`Арк» (он был опубликован уже после его смерти; вся ситуация и «письмо Вольтера» Пушкиным были выдуманы), где проводит параллель: «Вольтер — Дюлис» следовало читать «Пушкин — Дантес». Пушкин становится на сторону Вольтера, посчитавшего, что ниже его достоинства драться с Дюлисом, — и тем самым показывает свое истинное отношение и к Дантесу, и к последовавшей потом дуэли.
Значение Дантеса в истории дуэли и смерти Пушкина преувеличено многими поколениями пушкинистов. Дантес был пешкой не столько в игре травивших Пушкина, сколько в смертельной игре самого Пушкина, и в этом Лацис и Петраков не могли не сойтись. Лацис убедительно показал, что одной из причин поведения Пушкина в последний год жизни, истинной причиной смертельных условий дуэли с Дантесом стала осознававшаяся необходимость ухода из жизни.
Те, кто описывал, как выглядел Пушкин в последние месяцы жизни, свидетельствуют, что вид его был страшен, а при упоминании имени Дантеса его лицо сводили сильные судороги. Они не понимали, что принимают за причину следствие: болезнь зашла так далеко, что один из ее самых характерных признаков — нервный тик — усилился, превратился в судороги и стал бросаться в глаза. Немудрено, что симптом так ярко проявлялся при виде человека, которого он — при пушкинском жизнелюбии — намерен был сделать собственным палачом. Это исследование Лациса наконец-то объяснило факт, который для пушкинистики всегда был загадкой:
«Ни один из лучших пушкинистов не взялся объяснить, — писал Лацис, — почему Пушкин плакал навзрыд на праздновании лицейской годовщины 19 октября 1836 года. Почему так и не смог дочитать приготовленные стихотворные листы? Вероятно, эти вопросы задавали себе многие, находили ответ некоторые, но вслух не проговорился никто… Ужели непонятно? Поэт ясно представлял: этот праздник для него последний, на следующем его не будет, его не будет нигде… Стало быть, им было принято твердое решение опередить конечную стадию той болезни, от которой, во избежание предстоящих унизительных страданий, существует лишь одно единственное лекарство — смерть».
Когда было принято окончательно это ужасающее, мучительное решение? Скорее всего — в 1835 году. Именно к этому времени относятся его стихотворения «Родрик» и «Странник»; последнее, в свете сказанного выше, особенно откровенно:
При детях и жене сначала я был тих
И мысли мрачные хотел таить от них;
Но скорбь час от часу меня стесняла боле;
И сердце, наконец, раскрыл я поневоле.
«О горе, горе нам! Вы, дети, ты жена! —
Сказал я, ведайте: моя душа полна
Тоской и ужасом; мучительное бремя
Тягчит меня. Идет! Уж близко, близко время…»
……………………………………………………………….
«Познай мой жребий злобный:
Я осужден на смерть и позван в суд загробный —
И вот о чем крушусь: к суду я не готов,
И смерть меня страшит».
О близкой смерти Пушкин сообщает и в несохранившемся письме к Катенину, написанном не позже апреля 1835 года, поскольку ответное письмо Катенина от 16 мая написано явно без продолжительной паузы в переписке — и Катенин пишет: «Судя по твоим, увы! слишком правдоподобным словам, ты умрешь (дай Бог тебе много лет здравствовать!) Вениямином русских поэтов, юнейишм из сынов Израиля…»
* * *Предоставим последнее слово предсмертным словам Александра Лациса, который был потомком Пушкина по одной из внебрачных линий и был болен той же, наследственной болезнью (потому-то он и распознал ее симптомы у Пушкина):
«Не надо оскорблять поэта, приписывать ему отсутствие выдержки, проницательности, элементарного здравого смысла, — писал он в статье „У последнего порога“. — Он не был заводной игрушкой, не был рабом общего мнения…
Не в том суть, какая именно болезнь была у Пушкина, а в том какая болезнь у пушкинизма. Она сильно запущена. Вряд ли излечима. (Я бы, в расчете на новые, неожиданные „лекарства“, все-таки добавил: в ближайшем будущем. — В. К.) Прогнозис пессима. Но лечиться надо».
VII
Вернемся к вопросу, который был озвучен в тексте интервью с Н. Я. Петраковым в «Русском Курьере» от 28 мая 2002 г.: «Зачем Пушкину понадобились смертельные условия дуэли?» Ведь для того, чтобы быть наказанным за дуэль — при любом ее несмертельном исходе — высылкой из столицы, совершенно необязательно было так рисковать жизнью. Желание именно убить, движимое именно такой, смертельной ненавистью? Но Дантес, как мы уже знаем, столь сильных чувств не заслуживал, и Пушкин сам об этом написал в памфлете о Вольтере. Желание умереть? Но в таком случае, при пушкинском жизнелюбии, у него должны были быть веские основания в поддержку такого намерения.
Так что же все-таки толкало Пушкина на смерть и заставило назначить поистине убийственные условия дуэли? Я вижу только одну бесспорную причину. Похоже, эта догадка Александра Лациса, которой он обязан той же самой болезни, полученной им от поэта по наследству (он сказал мне об этом перед смертью), — эта догадка в истории дуэли и смерти поэта — основополагающая. Другое дело — что такой, самоубийственный уход из жизни решал все проблемы, разрубал все завязавшиеся узлы.
Стало быть, Александр Лацис был прав: именно по причине уже принятого решения Пушкин рыдал 19 октября 1836 года: он не оставил себе шанса. Он знал, чем кончится его дуэль, и сделал все возможное, чтобы перед смертью защитить свою честь и честь семьи, — это и показал в своем блестящем исследовании Николай Петраков, пройдя вслед за Павлом Щеголевым и сделав последний, решающий шаг. Этим трем замечательным пушкинистам мы и обязаны практически полной картиной предыстории последней пушкинской дуэли.
Возможно ли к этому что-либо добавить? Оказывается, возможно.
VIII
Известно, что письмо с пресловутым «дипломом рогоносца» было под двойным конвертом, и конверт с самим «дипломом» был запечатан сургучной печатью, на которой без труда можно прочесть А и П — инициалы имени и фамилии Пушкина (причем и по-русски, и по-французски!). С учетом двойной направленности «диплома» «по царской линии» это была не просто смелость: это был смертельный риск.
Такое прочтение в сургучной печати «пасквильного письма» инициалов Пушкина можно было бы счесть натяжкой, когда бы печать не содержала еще и изображение ветки акации и циркуля. А вот это — решающий аргумент, ибо это масонские символы, причем ветка акации — один из важнейших. Мало того, печать по этому признаку была согласована и с тайным содержанием самого «диплома». Иначе и быть не могло: невозможно представить, чтобы Пушкин, закладывая в «диплом» тайный смысл — и не один, — не использовал каждый элемент этого анонимного письма, в том числе — и печать.