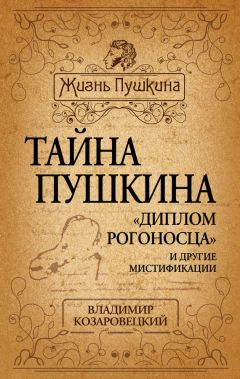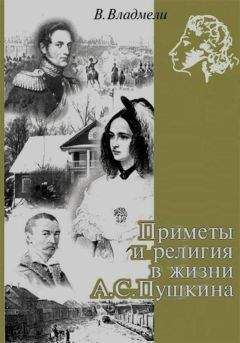Владимир Козаровецкий - Тайна Пушкина. «Диплом рогоносца» и другие мистификации
Приглядываясь к своему окружению – а Кукольник в окружение Пушкина входил, – Пушкин в дневниковой записи от 2 апреля 1836 года, после знакомства с ним, и отметил важную для себя черту его характера: « Он кажетсяочень порядочный молодой человек» . В этой фразе два ключевых слова, а не одно, как можно было бы предположить: человек, которому Пушкин собирался доверить на сохранение тайну, должен был, конечно, быть безусловно порядочным – но и, крайне желательно, молодым , чтобы хотя бы при своей жизни как можно дольше эту тайну охранять – в том числе и от Натальи Николаевны. Не по этой ли причине Пушкин в письме к ней иронически отзывается о Кукольнике, выводя его из круга тех, у кого стали бы искать письма жены – а их искали: полагаю, именно из-за них были опечатаны бумаги Пушкина сразу после его смерти .
Так Кукольник ознакомился с подробностями происходившего в семье Пушкина и в Аничковом дворце, что и послужило основой драмы «Гоф-юнкер» (она, разумеется, была запрещена). Когда через 30 лет после смерти и Натальи Николаевны, и Кукольника обнаруженная у родственников жены последнего пушкинская переписка попала в руки Бартеневу, информация оказалась и для него шокирующей. Трудно сказать, чего больше было в его реплике «Что-то сомнительно!» – сомнения в достоверности этих документов или опаски от прикосновения к тайне Романовых, не подлежавшей обнародованию. Вот почему и в 1912 году эти письма не попали в «Переписку Пушкина», а Бартенев заявил о возможности их публикации не раньше, чем «когда-нибудь».
IV
Сомнения Бартенева в возможности опубликовать письма Натальи Николаевны становятся понятными, если внимательно приглядеться к пресловутому «диплому рогоносца». Обращение Пушкина к теме фаворитизма двора Александра I для Пушкина не было новым: он уже однажды использовал этот адюльтерный сюжет – в «Гавриилиаде» (см. главу «Поэма в мистическом роде» ); но Пушкин невероятно усилил этот сюжет аналогией со своей семейной ситуацией. «Диплом», намекающий на измену и Александра I, и Николая I, был оскорбительным для обоих императоров, фактически обвиняя их в нарушении библейской заповеди (а Николая I – и в вопиющем ханжестве, поскольку он постоянно и напоказ демонстрировал свою приверженность христианским ценностям) и унизительным для императрицы Александры Федоровны и памяти императрицы Елизаветы Алексеевны. Другими словами, «диплом рогоносца» был оскорбительным для династии Романовых .
Проведенный академиком Н.Я.Петраковым анализ пушкинских писем преддуэльной поры и всей преддуэльной ситуации показывает, что никто, кроме Пушкина не мог и не осмелился бы написать такой «пасквиль»: он был нужен только ему самому и именно в том виде и в том количестве, как был написан и разослан. Вот почему получили его только друзья Пушкина, вот почему адреса на конвертах были указаны с такой точностью – даже тех, кто только что переехал. При пушкинском авторстве этот «диплом» органично встраивается в цепочку поступков и писем Пушкина в ноябре 1836 – январе 1837 гг., являясь необходимым звеном в его контригре, на которую вынудило его поведение царя, жены, Геккерна и Дантеса. Разумеется, как и всякая мистификация, эта тоже не оставила следов, подтверждающих ее с непреложностью факта, – но кроме изложенных соображений есть и другие косвенные свидетельства пушкинского авторства «диплома».
Важным свидетельством является, прежде всего, повторное использование сюжета с царем и Нарышкиными. Представим себе, что в 1828 году Пушкин передает Николаю I письмо с объяснением, кого именно он имел в виду в «Гавриилиаде», тем самым заставив царя «закрыть дело» об авторстве поэмы, а в 1836 году до царя доходит «диплом рогоносца». Было общеизвестно, что у Николая цепкая память; Пушкин бил наверняка.
Второе свидетельство – введенная в обсуждаемый оборот А.П.Лисуновым записка П.А.Плетнева о встрече с Пушкиным у Обухова моста незадолго до дуэли («Народное образование», 2004, №5):
«У Обухова моста, о судьбах Промысла. П. говорил, что как бы он ни шутил с судьбой, судьба шутит злее. Составить мистификацию – на манер «диплома рогоносца», припугнуть приятелей, которые не верили, чтоN (здесь было затерто. – В.К.) лезет к нему в душу и постель. Разослал в конвертах. А все оказалось правдой – жена в слезах, приятели испуганы. Как им сказать, что все шутка. Меня он пропустил, потому что я человек благоволения – и все пойму».
О том, что автор «Записки» – Плетнев, свидетельствует и стремление точно передать пушкинские слова, и осторожность, с которой затерто имя того, кто лезет к Пушкину «в душу и постель» (Плетнев был трусоват; впрочем, и кто бы в то время осмелился вписать в такой текст имя царя – но не имя же Дантеса стирал владелец записки!), и тот факт, что Плетнева не было среди получивших «диплом». Но решающим доказательством подлинности «Записки» служит не только проглядывающий сквозь запись Плетнева стиль Пушкина, но и характерно пушкинский афоризм: «Как бы ни шутить с судьбой, судьба шутит злее» . На такой афоризм не был способен ни автор публикации в журнале «Народное образование» Лисунов или его редактор (разумеется, не в упрек им обоим), ни показавший Лисунову эту записку букинист.
Подробный разбор обстоятельств появления этой записки и степени ее достоверности приведен в моей статье «Встреча у Обухова моста» на том же сайте и в книге «Пушкинские тайны».
V
В одной из своих статей для советского спортивного журнала Александр Лацис рассказал о пушкинских занятиях физкультурой. Из писем Пушкина и воспоминаний о нем вполне возможно воссоздать тот образ жизни, который он вел в деревне; известно, что он любил верховую езду, много ходил пешком, обливался холодной водой. В городе он стремился по возможности сохранить эти деревенские привычки и в течение всей жизни занимался гимнастикой и для укрепления «дуэльной» руки носил тяжелую трость. Однако только к концу жизни сам Лацис, на собственном примере, понял, что Пушкин с помощью этой «лечебной физкультуры» надолго отодвинул неотвратимую победу болезни, одно из первых проявлений которой описано поэтом в раннем стихотворении «Сон» (эти неожиданные обмороки преследовали Пушкина всю жизнь).
Отмечали, что Пушкин грыз ногти, но это не так: он просто прикрывал рукой нервный тик в углу рта, который появлялся у него в минуты эмоционального возбуждения. В последний год жизни нервный тик превратился в судороги, которые временами страшно искажали его лицо. Кроме неожиданных обмороков и судорог был еще один грозный симптом, который довершал картину заболевания: микрография . В медицинских справочниках он описывается так: сначала буквы могут быть обыкновенного размера, но, по мере письма, они становятся все меньше и в конце страницы могут быть меньше в несколько раз. В последний год жизни Пушкина микрография развилась настолько, что буквы в последних строчках на листе были чуть ли не в 10 раз меньше, чем в начале.
Лацис не называет болезнь – он лишь сообщает, что впервые она была описана в Англии в 1817 году. Однако известно, что в 1817 году в Англии впервые было опубликовано «Эссе о дрожательном параличе» Джеймса Паркинсона – то есть описана так называемая «болезнь Паркинсона» (он описал течение болезни на собственном примере), и практикующие невропатологи вполне могут сопоставить признаки и оценить вероятность именно этого заболевания. Неизвестно, читал ли ее описание Пушкин – в подлиннике ли или в переводе на русский или французский, – но в Одессе поэт был дружен с домашним доктором семьи Воронцовых Уильямом Хатчинсоном (это о нем Пушкин писал в письме к В.К.Кюхельбекеру в апреле 1824 года: «…Беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я еще встретил» .), хорошо знавшим ее симптомы, поскольку Хатчинсон был учеником и коллегой Джеймса Паркинсона . Скорее всего, он и предсказал Пушкину течение болезни.
Нетрудно представить воображенный Пушкиным исход – с учетом того, что болезнь у него проявилась так рано и что она была практически не изучена; никаких лекарств, хотя бы замедляющих ее течение, не было, а вся стрессовая обстановка вокруг поэта в течение практически всей жизни только провоцировала ее ускорение. Хотя болезнь Паркинсона обычно развивается в пожилом возрасте, Пушкин уже к 35 годам ощутил грозное приближение симптомов, которые для него могли означать только неизбежный скорый конец. Он мог представить себе обездвиженность и паралитическую беспомощность при естественном развитии болезни – и он не мог этого допустить: при одной мысли о том, что ему грозит подобное, он приходил в ужас.