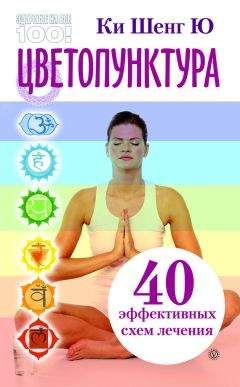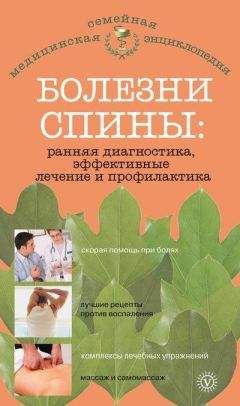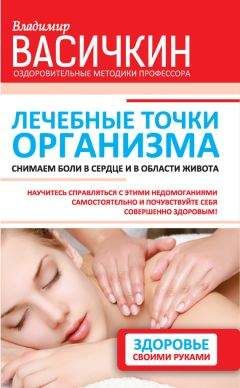Лидия Гинзбург - О психологической прозе. О литературном герое (сборник)
Здесь наглядно показано, каким образом человек может одновременно знать и как бы не знать то, чего он о себе знать не хочет. Из множества «равноправных мыслей» человек, в зависимости от своей психологической установки, отбирает и группирует наиболее «удобные», а прочие, неудобные, терпит как неизбежный алогизм, который надо обойти, если нельзя убрать с дороги. Так поступает Самгин с мыслью о том, что он бездарен, что он недотягивает до «умников». Это знание и существует в нем, и не мешает приятному переживанию своей значительности. Степень отчетливости одной и той же неудобной мысли меняется в зависимости от обстоятельств. Этот механизм Горький исследует в особенности на материале самой острой из всех нежелательных догадок своего героя, его догадки о собственной неудержимой склонности к предательству. Клим воспитан в представлении о том, что доносить нехорошо, что этого не следует делать, что среда, по нормам которой он живет, извергает из себя предателей, – но с малых лет как-то так у него получается, что он доносит. В гимназии он выдал товарища и, «поняв, что это он выдал Инокова, испуганно задумался: почему он сделал это? И, подумав, решил, что карикатурная тень головы инспектора возбудила в нем, Климе, внезапное желание сделать неприятность хвастливому Дронову… Чувствуя вину свою, Клим подумал, как исправить ее, но, ничего не придумав, укрепился в желании сделать Дронову неприятное». Потом он выдает своему отчиму Варавке тайну его дочери. «Это сказалось само собою, очень просто: два серьезных человека, умственно равные, заботливо беседовали о людях юных и неуравновешенных, беспокоясь о их будущем. Было бы даже неловко умолчать о странных отношениях Лидии и Макарова». Клим Самгин предает, но он далек от того, чтобы поступки перевести на язык свойств. Он предает, но не скажет о себе – я предатель. Горьковскому Самгину хочется предавать и одновременно хочется осуждать предателей и чувствовать себя порядочным человеком; толстовскому Николаю I хочется приговорить человека к мучительной, медленной смерти и одновременно хочется считать, что в России нет смертной казни. И то и другое доставляет удовольствие. Каждое из этих желаний включено в свой причинный ряд.
В контактах Самгина с жандармами мысль о предательстве проходит через разные уровни – от полного вытеснения до ясного осознания. Климу сообщают, что его любовницу Никонову подозревают в связях с охранкой. «– Не может быть, – искренно (подчеркнуто мною. – Л. Г.) воскликнул Самгин, хотя догадывался именно об этом. Он даже подумал, что догадался не сегодня, не сейчас, а давно, еще тогда, когда прочитал записку симпатическими чернилами. Но это надо было скрыть не только от Гогина, но и от себя». Надо скрыть, потому что он продолжал отношения с этой женщиной и продолжал осознавать себя порядочным человеком. Самгина допрашивает жандармский офицер и предлагает ему стать агентом; Клим отказывается. «Теперь ему казалось, что задолго до того, как офицер предложил ему службу шпиона, он уже знал, что это предложение будет сделано… Встал и пошел домой, убеждая себя: „Разумеется, я оскорблен морально, как всякий порядочный человек. Морально“. Но он смутно догадывался, что возникшая необходимость убеждать себя в этом утверждает обратное: предложение жандарма не оскорбило его. Пытаясь погасить эту догадку, он торопливо размышлял: „Если б теория обязывала к практической деятельности, – Шопенгауэр и Гартман должны бы убить себя. Ленау, Леопарди…“ Но Самгин уже понял: испуган он именно тем, что не оскорблен предложением быть шпионом. Это очень смутило его, и это хотелось забыть. „Клевещу я на себя, – думал он. – А этот полковник или ротмистр – глуп. И – нахал. Жертвенное служение… Активная борьба против Любаши. Идиот…“»
В «Жизни Клима Самгина» Горький изобразил потенциальное предательство, которое только ждет, когда с него будут сняты запреты, налагаемые давлением среды. Пока давление существует, вместе с готовностью к предательству образуя двойную обусловленность. И Самгин, зная, что предложение доносить его не оскорбило, продолжает, даже внутренне, сверять себя с выработанной его средою моделью интеллигента, порядочного человека. Унаследованный от Толстого метод рассмотрения обусловленности, одновременно действующей на разных уровнях душевной жизни, Горький переработал, применяя его к политической и нравственной проблематике предреволюционной эпохи.
2
Психологический анализ пользуется разными средствами. Он осуществляется в форме прямых авторских размышлений, или в форме самоанализа героев, или косвенным образом – в изображении их жестов, поступков, которые должен аналитически истолковать подготовленный автором читатель. Среди всех этих средств анализа особое место принадлежит внешней и внутренней речи персонажей. Их поведение, переживания писатель переводит на язык слов, тогда как, изображая речь человека, он пользуется той же системой знаков, и средства изображения тождественны тогда изображаемому объекту. В прямой речи действующих лиц таятся поэтому особые возможности непосредственного и как бы особенно достоверного свидетельства их психологических состояний. Слово персонажа может стать до предела сжатым отражением его характера, переживаний, побуждений, своего рода фокусом художественной трактовки образа. Но потребовалось длительное развитие, работа многих великих художников для того, чтобы эти возможности слова могли осуществиться.
Литературные формы и функции прямой речи претерпели глубочайшие изменения – от недифференцированной, лишь формально выделенной из повествования речи персонажей средневековых памятников до умышленно бессвязного, исполненного подводных течений диалога в прозе XX века.
Стилистическое и интонационное единообразие, неотделенность от авторского слова, иллюстративность – все эти черты прямой речи средневековой литературы (русской, как и западноевропейской) в какой-то, разумеется, видоизмененной форме присущи и высокой прозе эпохи господства рационализма, даже аналитическому роману. Персонажи «Принцессы Клевской» разговаривают много. Но разговоры их являются не предметом, а лишь средством анализа. Авторское повествование плавно входит в прямую речь и вновь из нее выходит, как бы этого не замечая. Речи героев сохраняют интеллектуальную ясность, логическое изящество при любых обстоятельствах – в пылу любовных объяснений, на смертном одре (предсмертное обращение принца Клевского к жене, которую он подозревает в измене). Даже в «Адольфе», написанном уже в начале XIX века, прямая речь – только нейтральный проводник психологической борьбы между героем и героиней.
Сентиментализм, смыкающийся с Просвещением, сохранил и в изображении прямой речи многие черты рационалистического подхода – логическую прозрачность, стилистическую нерасчлененность авторской и чужой речи. Но появилось и новое. Сентиментализм, не оторвавшийся от рационализма, применял его методы к другому материалу, к страстям и чувствам другого социального качества. Появился отчетливо выраженный эмоциональный тон, особая экспрессия чувствительной души, общая для речи автора и речи героя.
Все это относится к тому герою, посредством которого литература познавала душевную жизнь в высших ее проявлениях. Комический персонаж сентиментально-просветительской, впоследствии и романтической прозы существовал по другим законам, преемственно связанным с традицией низших жанров классицизма. В прямую речь комического персонажа прозы – как и в речь персонажа классической комедии, позднее мещанской драмы – проникало бытовое, социально характерное. На путях бытового натурализма и сатирических обобщений уже в середине XVIII века могло возникнуть такое сложнейшее явление, как, например, у Дидро речь племянника Рамо – речь, не только исследованная в своей социальной характерности, но изображенная как действо, с поразительным психологическим проникновением и физической наглядностью.
Что касается высоких героев дореалистической прозы, то близость их речи к авторской закономерна, ведь автор и несущий основную идеологическую нагрузку герой принадлежат к одному направлению культуры, обладают тем же строем духовной жизни. Так складывалась единая стилистика авторского слова и слова персонажа, внешнего и внутреннего: внутренняя речь столь же условна, как внешняя, и потому представляет собой ее стилистическое подобие.
До психологического реализма XIX века господствовало прямое соотношение между внутренними мотивами персонажа и его высказываниями. Разумеется, персонаж может скрывать истину, лгать, интриговать и проч. Но и ложь является ведь прямым выражением его намерений, которые уже известны или будут известны читателю. Прямому соотношению между мотивами персонажа и его речью соответствует идеальное соотношение между высказыванием и ситуацией высказывания. Высказывание осуществляется не потому, чтобы в данной форме оно было эмпирически возможно при данных обстоятельствах, но потому, что оно соответствует идее созданной художником ситуации. В «Новой Элоизе» Юлия, умирая, в течение нескольких дней произносит пространные назидательные речи (вступает даже с пастором в спор о догмате воскресения во плоти), отличающиеся логическим построением и изысканностью слога. Руссо не интересует эмпирическая возможность подобных речей, ему достаточно их идеального соответствия возвышенной, самоотверженной смерти героини.