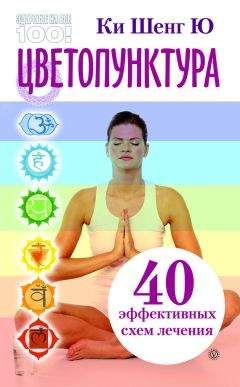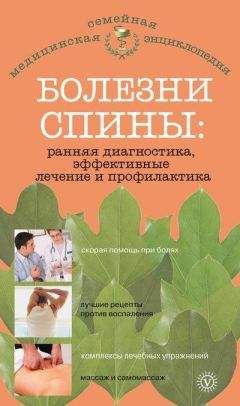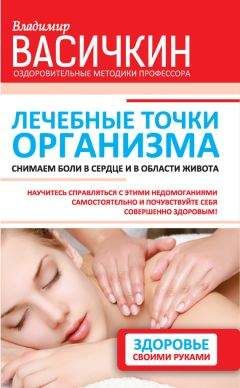Лидия Гинзбург - О психологической прозе. О литературном герое (сборник)
Действием сходного психологического механизма объясняет Толстой и решение Николая по поводу провинившегося студента-поляка. «Он сделал много зла полякам. Для объяснения этого зла ему надо было быть уверенным, что все поляки негодяи. И Николай считал их таковыми и ненавидел их: ненавидел их в мере того зла, которое он сделал им… Он взял доклад и на поле его написал своим крупным почерком: „Заслуживает смертной казни. Но, славу богу, смертной казни у нас нет. И не мне вводить ее. Провести 12 раз сквозь тысячу человек. Николай…“ Николай знал, что двенадцать тысяч шпицрутенов была не только верная, мучительная смерть, но излишняя жестокость, так как достаточно было пяти тысяч ударов, чтобы убить самого сильного человека. Но ему приятно было быть неумолимо жестоким и приятно было думать, что у нас нет смертной казни». Для Толстого резолюция Николая, кровавая и гротескная, не просто лицемерие, скорее, это внутренняя игра в великого человека. Великий монарх – грозен и великодушен. В данном случае это несочетаемо, – что нужды, зато приятно.
Но самые сильные психологические фикции бессильны избавить сознание от того, что им противоречит. Нежелательные элементы имеют собственную обусловленность и потому продолжают свое независимое существование. Николай у Толстого знает многое. Знает, что сделал полякам много зла и что у него нет стратегических талантов. Знает, что он уже не тот великолепный красавец, которым был когда-то, а старый, обрюзгший человек, с огромным, туго перетянутым животом, знает, что он ведет развратную жизнь. «Николай… пошел дальше и стал громко произносить первые попавшиеся ему слова. „Копервейн, Копервейн“, – повторял он несколько раз имя вчерашней девицы. „Скверно, скверно“. Он не думал о том, что говорил, но заглушал свое чувство вниманием к тому, что говорил. „Да, что бы была без меня Россия“, – сказал он себе, почувствовав опять приближение недовольного чувства. „Да что бы была без меня не Россия одна, а Европа“». Есть внутренняя установка, «персона» великого человека и есть то аморфное, что окружает эту форму самосознания. Форма позволяет одновременно знать и не знать, жить так, как если бы не было того, что было. И все же то, что он знает, и то, что с ним было, человек несет в себе, и ему некуда сбросить эту ношу.
Литература впитывала поиски науки и в то же время, обгоняя психологию, сама проникала в новые области душевной жизни. Художественное постижение синхронности психологических процессов – в системе Толстого одно из решающих. Именно потому, что это открытие не изолированное, но взаимосвязанное и взаимодействующее с другими элементами этой системы – с динамикой и текучестью, с новым уровнем реалистического понимания обусловленности и противоречия. В конце XIX – начале XX века художественные открытия Толстого встретились, с одной стороны, с разработкой учения о подсознательном и бессознательном, с другой – с трактовкой поведения как системы обусловленных рефлексов. То, что для Толстого было чертой динамически рассматриваемой личности, разрасталось в дальнейшем, приобретало порой исключительное значение при изображении человека XX века с его разорванным сознанием – в частности, русского интеллигента «рубежа двух столетий», охваченного уже декадентскими веяниями.
Замечательный в этом отношении опыт – горьковская «Жизнь Клима Самгина». «Клим Самгин» – произведение в высшей степени многогранное, и здесь я коснусь одного лишь его аспекта, а именно некоторых способов исследования душевной жизни, примененных Горьким к главному герою романа, поскольку лишь главный герой исследуется в романе изнутри.
В письме 1925 года Горький сформулировал тему своего последнего романа: «люди, которые выдумали себя»[209]. Поднятая Толстым, в числе многих других, тема работы человека над собственным образом представляется Горькому важнейшим узлом политической и нравственной проблематики. Из чего состоит Клим Самгин? Из средних способностей, огромного самолюбия, эгоизма и пустоты. Пустота и есть самый конструктивный элемент в душевном устройстве Клима. Высокий индивидуализм предполагал обогащение личности внеличными, общезначимыми ценностями, личную реализацию всеобщих ценностей и особенно интенсивное переживание этого акта. Эгоизм в этом смысле индивидуализму противоположен, и Клим Самгин есть предельное отсутствие общих ценностей. Но существует он в той предреволюционной интеллигентской среде, где все, с большей или меньшей мерой подлинности или фальши, говорят об общих ценностях, и он должен держаться на этом уровне. Поэтому для Самгина «человек – это система фраз»; для себя же он никак не может выработать эту систему, он решето, сквозь которое потоки чужих фраз протекают бесследно… Самоутверждение для Самгина возможно только в среде, в которой он существует, и, следовательно, по нормам, ею принятым. Формально поведение Самгина большею частью соответствует среднеинтеллигентским навыкам его времени. Его внутренние, непосредственные побуждения отмечены корыстью, трусостью, плоским эгоизмом, но он тормозит их нормой. И не только вовне, потому что – как сказал Горький о своем герое – он ищет для себя такого «места в жизни, где бы ему было удобно и материально и внутренне». А человеку неудобен слишком крутой разрыв между его внутренними состояниями и внешними проявлениями.
Самомоделирование дается Климу с трудом. Он не нашел своей «системы фраз» и потому из хаоса сосуществующих, скрещивающихся психических элементов никак не может вылепить «персону» – маску, организующую поведение. Горький неоднократно изображает самый процесс этих тщетных усилий, непрочные находки героя, скоро кончающиеся новым срывом в пустоту. И Клима тогда преследуют непохожие друг на друга, но похожие на него двойники, вырастающие из разных нежелательных о себе догадок. Нежелательные догадки приходится подавлять разными средствами. Самгин знает, что в больнице должна умереть его жена, с которой он разошелся. «Проснулся рано, в настроении очень хорошем, позвонил, чтоб дали кофе, но вошел коридорный и сказал: – Вас дожидается человек из похоронной конторы… – Самгин минуту посидел на постели, прислушиваясь, как отзовется в нем известие о смерти Варвары. Ничего не услыхал, поморщился, недовольный собою, укоризненно спрашивая кого-то: „Разве я бессердечен?“ Одеваясь, он думал: „Бедная. Так рано. Так быстро“. И, думая словами, он пытался представить себе порядок и количество неприятных хлопот, которые ожидают его». Догадку о своем бессердечии Клим приглушает словами, формально соответствующими норме приличий.
Но для Клима гораздо опаснее догадка о собственной бездарности. «Клим Самгин смутно чувствовал, что он должен в чем-то сознаться перед собою, но не мог и боялся понять: в чем именно?.. Клим окутал одеялом голову, вдруг подумав: „В сущности – я бездарен“. Но эта догадка, не обидев его, исчезла, и снова он стал прислушиваться, как сквозь его течет опустошающее, бесформенное… „В сущности, все эти умники – люди скучные. И – фальшивые, – заставлял себя думать Самгин… В душе каждого из них, под словами, наверное, лежит что-нибудь простенькое…“ Клим Самгин не впервые представил, как в него извне механически вторгается множество острых, равноценных мыслей. Они противоречивы, и необходимо отделить от них те, которые наиболее удобны ему… Иногда его уже страшило это ощущение самого себя как пустоты, в которой непрерывно кипят слова и мысли… Он даже спрашивал себя: „Ведь не глуп же я?“… „Я напрасно волнуюсь… Уже где-то глубоко в душе моей зреет зерно истинной веры моей! Она еще не ясна мне, но это ее таинственная сила отталкивает от меня все чужое, не позволяя мне усвоить его. Есть идеи для меня и не для меня… Я еще не встретил идей, «химически сродных» мне…“ Он осторожно улыбнулся, обрадованный своим открытием, но еще не совсем убежденный в его ценности».
Здесь наглядно показано, каким образом человек может одновременно знать и как бы не знать то, чего он о себе знать не хочет. Из множества «равноправных мыслей» человек, в зависимости от своей психологической установки, отбирает и группирует наиболее «удобные», а прочие, неудобные, терпит как неизбежный алогизм, который надо обойти, если нельзя убрать с дороги. Так поступает Самгин с мыслью о том, что он бездарен, что он недотягивает до «умников». Это знание и существует в нем, и не мешает приятному переживанию своей значительности. Степень отчетливости одной и той же неудобной мысли меняется в зависимости от обстоятельств. Этот механизм Горький исследует в особенности на материале самой острой из всех нежелательных догадок своего героя, его догадки о собственной неудержимой склонности к предательству. Клим воспитан в представлении о том, что доносить нехорошо, что этого не следует делать, что среда, по нормам которой он живет, извергает из себя предателей, – но с малых лет как-то так у него получается, что он доносит. В гимназии он выдал товарища и, «поняв, что это он выдал Инокова, испуганно задумался: почему он сделал это? И, подумав, решил, что карикатурная тень головы инспектора возбудила в нем, Климе, внезапное желание сделать неприятность хвастливому Дронову… Чувствуя вину свою, Клим подумал, как исправить ее, но, ничего не придумав, укрепился в желании сделать Дронову неприятное». Потом он выдает своему отчиму Варавке тайну его дочери. «Это сказалось само собою, очень просто: два серьезных человека, умственно равные, заботливо беседовали о людях юных и неуравновешенных, беспокоясь о их будущем. Было бы даже неловко умолчать о странных отношениях Лидии и Макарова». Клим Самгин предает, но он далек от того, чтобы поступки перевести на язык свойств. Он предает, но не скажет о себе – я предатель. Горьковскому Самгину хочется предавать и одновременно хочется осуждать предателей и чувствовать себя порядочным человеком; толстовскому Николаю I хочется приговорить человека к мучительной, медленной смерти и одновременно хочется считать, что в России нет смертной казни. И то и другое доставляет удовольствие. Каждое из этих желаний включено в свой причинный ряд.