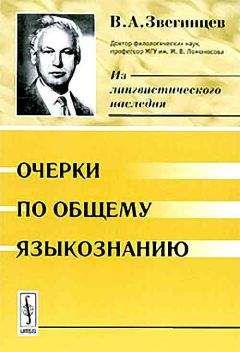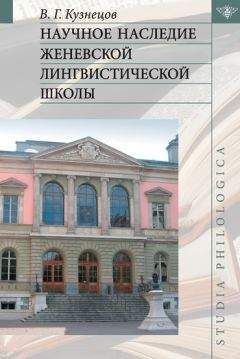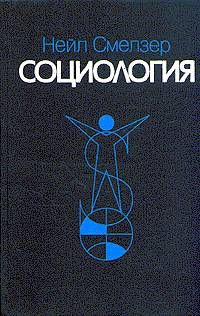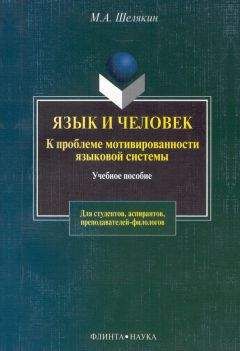Звегинцев Андреевич - Очерки по общему языкознанию
Если исключить эти зависящие от человеческой оценки образования, то, видимо, от остальных слов, обозначающих растительный мир, можно ожидать большей обусловленности сущностью самих вещей. Но это от<309>нюдь не значит, что в них находит отражение внутренняя структура растительного царства. Возьмем, например, слова Beere, Blume. Не случайно, что в словарях (вроде словаря Г. Пауля) не даются определения их значений. Трудно ли это сделать или они разумеются сами по себе? Попробуем определить Beere (ягоды) как «род плодов с мясистой оболочкой, в которую включены семена»; в этом случае наряду с «подлинными» ягодами — Johanisbeeren (смородиной), Heidelbeeren (черникой), мы должны будем отнести сюда также и Orangen (апельсины), Gurken (огурцы) и даже Дpfel (яблоки) и Birnen (груши), которые обычно не считаются ягодами, в то время как, с другой стороны, самые обычные Beeren (ягоды), как Himbeeren (малина), Erdbeeren (земляника) оказываются вовсе и не Beeren, aSchein- undSammelfrьchte (мнимые или сборные плоды). Очевидно, «область значений» Beeren (ягод) также определяется «мыслительным промежуточным миром»; в форме, величине, строении этих плодов содержатся определенные предпосылки, но «ягодами» они становятся на основании человеческих суждений, которые ни в коем случае нельзя представлять в форме идей, стоящих за явлениями в готовом виде. И, конечно, нельзя эти образования принимать как «само собой разумеющиеся»; надо вскрывать принцип, на котором они основываются» [394] 20.
В том, как язык классифицирует предметы и явления внешнего мира, какие отношения устанавливает он между ними, как их оценивает со своей «человеческой точки зрения», Л. Вайсгербер и усматривает «мировоззрение языка» и именно на вскрытие этих своеобразий каждого языка и направляет свое исследование, интересуясь в первую очередь «картиной мира» немецкого языка. Эта картина не является стабильной, но подвергается постоянным изменениям в процессе исторического развития языка. «Известно, — говорит по этому поводу Л. Вайсгербер, — что многие слова, относящиеся к животному царству, обладали в средневерхненемецком иными «значениями», нежели те, какими они обладают в современном немецком: средневерхненемецкое tier не является общим обозначением для всего животного мира, но озна<310>чает только «четвероногих диких зверей» (в противоположность vihe — «домашним животным»); средневерхненемецкое Wurm гораздо шире, чем современное Wurm (червь), так как включает не только Schlangen (змей) и Drachen (драконов), но и Spinnen (пауков) и Raupen (гусениц); средневерхненемецкое vogel (птица) охватывает также Bienen (пчел), Schmetterlinge (бабочек) и даже Fliegen (мух). Если сравнить все совокупности слов, то выявляется, что имеют место не отдельные «смещения значений», но что весь животный мир в средневерхненемецком строился совершенно иначе, чем в современном немецком языке. Мы не обнаруживаем общего обозначения в средневерхненемецком для животных вообще, только выделение отдельных их групп: с одной стороны, домашние животные — vihe, с другой — четыре подразделения диких животных, группирующихся по способу движения: tier (бегающее животное), vogel (летающее животное), wurm (ползающее животное), visch (плавающее животное). Это четко членящаяся картина, но она совершенно не совпадает ни с зоологическими классификациями, ни с состоянием ее в современном немецком языке. Так же как в отношении современного немецкого языка, мы можем сказать о средневерхненемецком, что и в нем речь идет об особой языковой картине мира» [395] 21.
Подобного рода различия, разумеется, отчетливее всего проявляются при сопоставлении разных и в особенности достаточно далеких друг от друга языков. Сам Вайсгербер проводит свои исследования по преимуществу в пределах немецкого языка (приемом сравнения языков широко пользуется Уорф), но различию языков он придает большое философское, лингвистическое, культурно-историческое и даже эстетическое и правовое значение. Он указывает на односторонность, известную «субъективность» мировоззрения каждого языка в отдельности. «Если бы, — пишет он, — у человечества существовал только один язык, то его субъективность раз и навсегда установила бы путь познания объективной действительности. Эту опасность предупреждает множественность языков: множественность языков — это множественность путей реализации человеческого дара ре<311>чи, она обеспечивает человечеству необходимое многообразие способов видеть мир. Таким образом, неизбежной односторонности одного единственного языка множественность языков противопоставляет обогащение посредством многообразности мировоззрений, что препятствует также и переоценке единичного способа познания как единственно возможного. Эту мысль наилучшим образом передает классическая формулировка Гумбольдта: «Взаимная зависимость мышления и слова ясно свидетельствуют о том, что язык есть не столько средство устанавливать уже известные истины, сколько в значительно большей степени открывать еще неизвестные. Различие языков заключается не в различиях звуковой оболочки и знаков, но в различии самих мировоззрений… Каждый человек может приблизиться к объективному миру не иначе, как в соответствии со своим способом познания и ощущения, т. е. субъективным путем». Каждый отдельный язык и есть такой субъективный путь собственной оценки» [396] 22.
Таковы в очень общих чертах взгляды Л. Вайсгербера на отношения, существующие между языком и мышлением. Схожими путями стремится исследовать эту проблему и Бенджамен Уорф, заимствовавший общую идею своей гипотезы у известного американского языковеда Э. Сепира. В отличие от Вайсгербераамериканский ученый обращает основное внимание на различия грамматических структур языков, которые нагляднее всего вскрываются посредством сопоставления этих структур [397] 23.
Сепир также исходит из того общего тезиса, что язык есть не столько средство для передачи общественного опыта, сколько способ определения его для говорящих на данном языке. «Язык, — пишет он, — не просто более или менее систематизированный инвентарь различных элементов опыта, имеющих отношение к индивиду (как это часто наивно полагают), но также замкнутая в себе, творческая и символическая система, которая не только соотносится с опытом, в значительной мере приобретенным помимо ее помощи, но фактически определяет для<312> нас опыт посредством своей формальной структуры и вследствие того, что мы бессознательно переносим свойственные ей особенности в область опыта. В этом отношении язык напоминает математическую систему, которая отражает опыт в действительном смысле этого слова только в самых своих элементарных началах, нос течением времени превращается в замкнутую систему понятий, дающую возможность предугадать все возможные элементы опыта в соответствии с определенными принятыми формальными правилами… [Значения] не столько раскрываются в опыте, сколько накладываются на него вследствие тиранической власти, которой лингвистическая форма подчиняет нашу ориентацию в мире» [398] 24.
Эти мысли своего учителя Уорф развивает следующим образом: «…лингвистическая система (другими словами, грамматика) каждого языка не просто передаточный инструмент для озвученных идей, но скорее сама творец идей, программа и руководство для интеллектуальной деятельности человеческих индивидов, для анализа их впечатлений, для синтеза их духовного инвентаря… Мы исследуем природу по тем направлениям, которые указываются нам нашим родным языком. Категория и формы, изолируемые нами из мира явлений, мы не берем как нечто очевидное у этих явлений; совершенно обратно — мир предстоит перед нами в калейдоскопическом потоке впечатлений, которые организуются нашим сознанием, и это совершается главным образом посредством лингвистической системы, запечатленной в нашем сознании» [399] 25.
Исследуя языки американских индейцев (в частности, язык хопи), Уорф из сопоставления их с английским или же с условным языком SAE (т. е. StandardAverageEuropean — «среднеевропейский стандарт»), объединяющим в себе особенности обычных европейских языков — английского, немецкого, французского, черпает примеры для иллюстрации своего принципа лингвистической относительности или положения о том, что «люди, использующие резко отличную грамматику, понуждаются своими грамматическими структурами к различным типам<313> наблюдений и к различной оценке внешне тождественных предметов наблюдения и поэтому в качестве наблюдателей не могут быть признаны одинаковыми, так как обладают различными взглядами на мир» [400] 26. Как и Вайсгербер, он устанавливает существование «мыслительного мира», который определяет совершенно в духе Гумбольдта. «Этот «мыслительный мир», — пишет он, — есть микрокосм, который человек повсюду носит с собой и с помощью которого он измеряет и познает все, что только в состоянии, в макрокосме» [401] 27. На основе всех этих предпосылок Уорф и делает свой главный вывод о том, что «каждый язык обладает своей метафизикой». Этот вывод фактически повторяет утверждение Вайсгербера о наличии у каждого языка своего мировоззрения, запечатленной в структуре языка особой «картины мира».