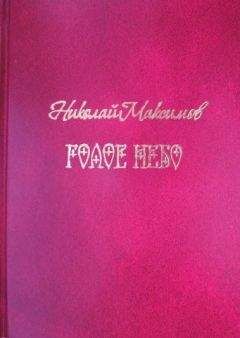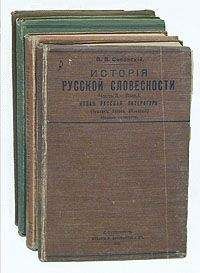Жан-Филипп Жаккар - Литература как таковая. От Набокова к Пушкину: Избранные работы о русской словесности
Прочтение «Капитанской дочки», в котором уделяется внимание этим вопросам, появилось только через сотню лет после написания романа. Именно поэтому эссе Цветаевой — отличный пример действительно новаторского взгляда, который обогащен всем опытом современности и потому способен показать новизну «классического» произведения. А. Маркович безусловно прав, когда утверждает, что, «кажется, только Цветаева по-настоящему прочла это последнее произведение Пушкина»[558], и в ее прочтении звучит восхищение поэта — поэтом и тем чудесным обманом, который лежит в основе любого литературного произведения.
Перевод с французского А. ПоповойОт петербургского тумана к римскому свету: городская «поэма» Николая Гоголя[*]
А существуют ли на самом деле «Петербургские повести»?
Вопрос может показаться нелепым, особенно когда держишь в руках книгу с таким заглавием. Однако он становится оправданным, когда знаешь, что сам Гоголь никогда не давал книге этого заглавия, а в историю литературы оно вошло несколько случайно для обозначения сборника гоголевских повестей. Но о каких именно повестях идет речь? Ибо если они «петербургские», как тут очутилась «Коляска», действие которой происходит в провинции? Одни скажут, что герой этой повести сделал карьеру в столице империи, другие добавят, что в ней можно найти стилистическое сходство с другими текстами этого периода, и, наконец, третьи заметят, что она была написана в российской столице. Допустим. Но что тогда сказать о «Шинели», целиком написанной за границей? И тем более, что сказать о «Риме», повести, завершающей цикл? Санкт-Петербург кажется очень далеким от этой повести, также написанной за границей и к тому же незаконченной. И если она не закончена, почему Гоголь в 1842 году решил включить ее, несмотря ни на что, в третий том своих «Сочинений» (который назван просто «Повести»)?
Много вопросов, которые так и не нашли ответов и от решения которых издатели зачастую уклонялись, предпочитая попросту исключать «Коляску» и «Рим» из состава «Петербургских повестей»: первую повесть — по причине ее провинциализма и анекдотического характера, вторую — ввиду ее незавершенности и того, что в ней действие разворачивается много южнее Петербурга. Эти изъятия позволяли предложить читателю «Петербургские повести» без примесей, во всяком случае тематических, и издатели избавлялись таким образом от необходимости как-то оправдать общее название сборника и тем более его состав.
Остается неясным, почему Гоголь не поступил подобным образом в 1842 году, когда он готовил третий том своего «Собрания сочинений». Но мы знаем, что писатель сам отобрал тексты для этого тома и, что еще важнее, сам определил порядок следования текстов. А ведь этот порядок никак не связан ни со временем написания текстов, ни со временем их публикации: «Шинель», написанная позднее других текстов (лишь немного раньше «Рима» и второго варианта «Портрета») и опубликованная впервые как раз в «Собрании сочинений» 1842 года, окружается двумя группами из трех повестей и, таким образом, оказывается в самой середине ансамбля, представляющего симметричную структуру:
«Невский проспект» (первая публикация: 1835 г.)
«Нос» (1836 г.)
«Портрет» (первая редакция: 1835 г.; вторая редакция: 1842 г.)
«Шинель» (1842 г.)
«Коляска» (1836 г.)
«Записки сумасшедшего» (1835 г.)
«Рим. Отрывок» (1842 г.)
Это простое напоминание с очевидностью показывает, что писатель организовал свои повести в цикл, и можно не без основания думать, что если он отобрал именно эти тексты, написанные в течение последнего десятилетия, то видел в них общий знаменатель, достаточно весомый, чтобы утвердить такой порядок. Впрочем, неудивительно: было установлено, что некоторые тексты писались параллельно. Так, «Невский проспект» был начат в то же время, что и первый вариант «Портрета», и без преувеличения можно утверждать, что оба художника растут из одного корня. Гоголь, рассказав историю Пискарева, покидает на время «Невский проспект» и обращается к «Портрету», прежде чем вернуться к первой повести и закончить ее похождениями Пирогова (после похорон Пискарева рассказчик произносит знаменательную фразу: «Мы, кажется, оставили поручика Пирогова на том, как он расстался с бедным Пискаревым и устремился за блондинкою»[560]). Таким образом, понятно, насколько важно соблюдать совокупность ансамбля, называемого «Петербургские повести», как единого текста, состоящего из нескольких глав, объединенных связующей нитью, обозначенной писателем, когда он готовил издание 1842 года.
Разумеется, каждая из этих «глав» образует законченное произведение с собственным значением и смыслом, которое может быть прочитано само по себе. Но публикация этих повестей, подчиненная другому порядку, хронологическому или иному, и изъятие или привнесение каких-либо текстов, как нередко происходит, лишают этот комплекс смысла, привносимого авторской организацией текста и выходящего за пределы каждой взятой отдельно повести.
В понимании этого единого смысла сам город играет центральную роль. Даже если он далеко, когда мы его покинули и устремились, например, в Рим. Итак: «Петербургские повести» существуют, но несколько в ином роде, чем принято думать.
«Нет ничего лучше Невского проспекта…»Приехав в северную столицу Российской империи из своей родной Малороссии в конце 20-х годов XIX века, Гоголь отдается сразу двум занятиям: службе и литературе. Если первая не принесла ему никакого удовлетворения (хотя государственная служба была идеализированной целью его перемещения) и он потерпел в ней неудачу, то вторая быстро принесла свои плоды. Когда появляются два его сборника «малороссийских повестей», «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831–1832 гг.), писатель уже стал хорошо известным в литературном мире и в 1834 году смог оставить место профессора всеобщей истории в Санкт-Петербургском университете (в этой роли ему удавалось лишь усыплять аудиторию), чтобы полностью посвятить себя литературе. Именно в это время Гоголь делает первые наброски того, что выльется затем в «Петербургские повести»: все они были написаны между этим годом и 1842-м, годом публикации первой части «Мертвых душ», которые создавались параллельно.
Город, увиденный Гоголем, довольно противоречив: если он блещет великолепием, унаследованным от XVIII века, века его рождения и бурного роста, он имеет и более неприглядные аспекты, связанные с чертами, сообщенными ему правлением Николая I, который подавил при восшествии на трон несколькими годами раньше восстание декабристов, готовился подавить и польский мятеж и понемногу стал превращать столицу в замкнутый мирок, где правит вездесущая бюрократия. Писатель открывает город, холодный и влажный климат которого приводит его в ужас. В 1836 году в журнале «Современник» он спрашивает себя, каким образом после Киева, где «мало холоду», и Москвы, где тоже холода недостаточно, «забросило русскую столицу — на край света», где «воздух продернут туманом», а земля «бледная, серо-зеленая»[561]. Другой упрек городу состоит в том, что у него очень слабо выражены национальные черты, в чем он являет собой полную противоположность Москве. После ряда таких замечаний Гоголь принимается сравнивать обе столицы. «Нечесаная» Москва — «домоседка, печет блины» противопоставлена Петербургу, этому вечно спешащему «щеголю», который встает засветло и на месте ему не сидится:
Москва не глядит на своих жителей, а шлет товары во всю Русь; Петербург продает галстуки и перчатки своим чиновникам. Москва — большой гостиный двор; Петербург — светлый магазин. Москва нужна для России; для Петербурга нужна Россия. В Москве редко встретишь гербовую пуговицу на фраке; в Петербурге нет фрака без гербовых пуговиц. Петербург любит подтрунить над Москвою, над ее аляповатостию, неловкостию и безвкусием; Москва кольнет Петербург тем, что он человек продажный и не умеет говорить по-русски. В Петербурге, на Невском проспекте, гуляют в два часа люди, как будто сошедшие с журнальных модных картинок, выставляемых в окна, даже старухи с такими узенькими талиями, что делается смешно; на гуляньях в Москве всегда попадется, в самой середине модной толпы, какая-нибудь матушка с платком на голове и уже совершенно без всякой талии[562].
Город является под пером Гоголя неким прекрасным иностранцем («Москва женского рода, Петербург мужеского», — подчеркивает писатель), и душа его — Невский проспект, описание которого и открывает сборник: «Нет ничего лучше Невского проспекта…» (5). Этот зачин знаменитого пролога вписывается в определенную традицию, восходящую к предшествующему веку: сказать похвальное слово городу и тем восславить деяния его основателя Петра Великого. Но очень бегло, ведь здесь все очень непрочно.