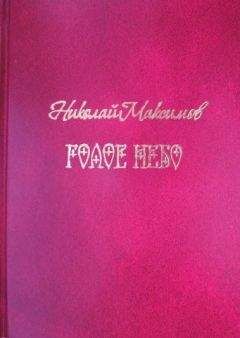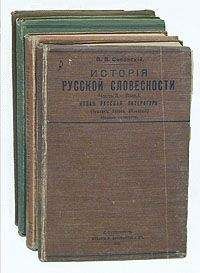Жан-Филипп Жаккар - Литература как таковая. От Набокова к Пушкину: Избранные работы о русской словесности
Как мы показали, автореференциальная игра, характеризующая творчество Пушкина, присутствует в «Капитанской дочке» в полном объеме. Хотя эти проявления, может быть, не так наглядны и очевидны, как в текстах вроде «Домика в Коломне», эта составляющая играет здесь важную роль, тем более что речь идет не просто об игре с формой, как в некоторых стихотворениях или в «Метели». Размышление литературы о себе самой, связанное с рефлексивной иронией, действующей на разных уровнях, в «Капитанской дочке», конечно, проявляется менее ярко, чем в «Метели», и тем не менее оно не просто там присутствует, а является основным элементом, на котором строится смысл романа. В результате этот смысл по своей глубине значительно превосходит смысловое наполнение «Метели». В повести Пушкин в основном пародирует композиционные и стилистические приемы, связанные с неким сложившимся жанром, а в романе ситуация совсем другая. Переходы, подчеркнутые симметричной структурой (скажем, переход Гринева — к взрослости, переход Пугачева от самозванца и волка — к «посаженому отцу», то есть человеку, или на жанровом уровне — переход от исторического плана к романному), — все они не только говорят о внутреннем размышлении произведения над своей сутью и литературой в целом, но и подводят к более существенным выводам, даже к некоей «морали», которая касается места человека в историческом вихре и его свободы в общем мироустройстве, а также роли литературы и писателя в интерпретации исторических событий, то есть всех тех вопросов, которые ставятся в разных произведениях Пушкина.
Речь идет о фундаментальной проблеме правды в литературе, проблемы тем более насущной, когда речь идет об Истории. Мы ведь отлично знаем, что Пугачев не защищал никакой Маши и не благословлял никакой свадьбы, и ничего не знаем о его страданиях и трагическом чувстве одиночества, которое захлестывало его по ходу его пути, но то, что, скорей всего, неправда в историческом плане и было бы неправдой, если бы попало в «Историю Пугачевского бунта», становится правдой в плане романном. И «Капитанская дочка» лишний раз подтверждает ту абсолютную свободу, на которую имеет право писатель в рамках творческого акта, пределы которого он определяет себе сам. Подтверждение этой свободы, безусловно, и есть тот самый нескончаемый урок, который преподносит любое литературное произведение, достойное такого названия, причем на ином уровне, чем тот, где ведутся игры с формой, — хотя и благодаря им. Ведь игра с формой, в которой всегда есть некоторая доля обмана (конечно, мы не вкладываем в это слово никакой моральной оценки), не имела бы вообще никакого смысла, если бы не решала других, более серьезных вопросов.
Снова необходимо констатировать, что в основе литературы всегда лежит обман, и этот обман сосредоточен ровно там же, где и новаторство писателя, — в той области, где произведение говорит о самом себе. Тут кроется одно из основных условий самого существования литературы. Не случайно Пушкина так сильно интересуют самозванцы в Истории: его героями становятся Годунов, Лжедмитрий, Мазепа и Пугачев. Пушкин осуществляет все те трансформации, которые мы описали, и делает историческую личность, чью жестокость он так убедительно показал в «Истории Пугачевского бунта», персонажем романа, привлекающим читательские симпатии. Так он утверждает, во-первых, неотъемлемое право подобного «обмана» на участие в литературном процессе, а во-вторых, полную свободу писателя, когда он создает произведение искусства. На этот метадискурс обычно не слишком обращают внимание, потому что в «Капитанской дочке», в отличие от других пушкинских текстов, он звучит не слишком явно, и обычно в связи с этим романом предпочитают говорить об истории, реализме, психологии любви и подобных вещах. Естественно, все это тоже присутствует в романе, иначе у него было бы совсем мало читателей. При том что большинство из них все же останавливаются на прочтении самого «верхнего уровня», из-за чего им приходится иногда обманываться в своих ожиданиях. Но если не уделять внимания этим аспектам, можно не заметить в романе многих главных проблем, тем более что, как и в «Метели», все персонажи, кроме Пугачева, здесь достаточно типичны: Маша — «бледная и трепещущая» «бедная девка»; Гринев — милый, но не слишком энергичный, а главное, жутко наивный; Швабрин — злодей, о котором нечего сказать, кроме того, что он злодей; и еще несколько интересных (но второстепенных) персонажей, например Савельич или капитанша, весьма своеобразная особа. Но никому из них ни разу не удалось изменить ход повествования, Пугачев оказывается его единственным движущим элементом. И ясно, что Пушкин не просто рассказывает нам довольно банальную историю любви (вроде тех, что встречаются в других романах этого жанра) и не просто обращается к Истории (как он это делает в «Истории Пугачевского бунта»), а создает некий новый объект — и показывает, как именно он его создает.
Прочтение «Капитанской дочки», в котором уделяется внимание этим вопросам, появилось только через сотню лет после написания романа. Именно поэтому эссе Цветаевой — отличный пример действительно новаторского взгляда, который обогащен всем опытом современности и потому способен показать новизну «классического» произведения. А. Маркович безусловно прав, когда утверждает, что, «кажется, только Цветаева по-настоящему прочла это последнее произведение Пушкина»[558], и в ее прочтении звучит восхищение поэта — поэтом и тем чудесным обманом, который лежит в основе любого литературного произведения.
Перевод с французского А. ПоповойОт петербургского тумана к римскому свету: городская «поэма» Николая Гоголя[*]
А существуют ли на самом деле «Петербургские повести»?
Вопрос может показаться нелепым, особенно когда держишь в руках книгу с таким заглавием. Однако он становится оправданным, когда знаешь, что сам Гоголь никогда не давал книге этого заглавия, а в историю литературы оно вошло несколько случайно для обозначения сборника гоголевских повестей. Но о каких именно повестях идет речь? Ибо если они «петербургские», как тут очутилась «Коляска», действие которой происходит в провинции? Одни скажут, что герой этой повести сделал карьеру в столице империи, другие добавят, что в ней можно найти стилистическое сходство с другими текстами этого периода, и, наконец, третьи заметят, что она была написана в российской столице. Допустим. Но что тогда сказать о «Шинели», целиком написанной за границей? И тем более, что сказать о «Риме», повести, завершающей цикл? Санкт-Петербург кажется очень далеким от этой повести, также написанной за границей и к тому же незаконченной. И если она не закончена, почему Гоголь в 1842 году решил включить ее, несмотря ни на что, в третий том своих «Сочинений» (который назван просто «Повести»)?
Много вопросов, которые так и не нашли ответов и от решения которых издатели зачастую уклонялись, предпочитая попросту исключать «Коляску» и «Рим» из состава «Петербургских повестей»: первую повесть — по причине ее провинциализма и анекдотического характера, вторую — ввиду ее незавершенности и того, что в ней действие разворачивается много южнее Петербурга. Эти изъятия позволяли предложить читателю «Петербургские повести» без примесей, во всяком случае тематических, и издатели избавлялись таким образом от необходимости как-то оправдать общее название сборника и тем более его состав.
Остается неясным, почему Гоголь не поступил подобным образом в 1842 году, когда он готовил третий том своего «Собрания сочинений». Но мы знаем, что писатель сам отобрал тексты для этого тома и, что еще важнее, сам определил порядок следования текстов. А ведь этот порядок никак не связан ни со временем написания текстов, ни со временем их публикации: «Шинель», написанная позднее других текстов (лишь немного раньше «Рима» и второго варианта «Портрета») и опубликованная впервые как раз в «Собрании сочинений» 1842 года, окружается двумя группами из трех повестей и, таким образом, оказывается в самой середине ансамбля, представляющего симметричную структуру:
«Невский проспект» (первая публикация: 1835 г.)
«Нос» (1836 г.)
«Портрет» (первая редакция: 1835 г.; вторая редакция: 1842 г.)
«Шинель» (1842 г.)
«Коляска» (1836 г.)
«Записки сумасшедшего» (1835 г.)
«Рим. Отрывок» (1842 г.)
Это простое напоминание с очевидностью показывает, что писатель организовал свои повести в цикл, и можно не без основания думать, что если он отобрал именно эти тексты, написанные в течение последнего десятилетия, то видел в них общий знаменатель, достаточно весомый, чтобы утвердить такой порядок. Впрочем, неудивительно: было установлено, что некоторые тексты писались параллельно. Так, «Невский проспект» был начат в то же время, что и первый вариант «Портрета», и без преувеличения можно утверждать, что оба художника растут из одного корня. Гоголь, рассказав историю Пискарева, покидает на время «Невский проспект» и обращается к «Портрету», прежде чем вернуться к первой повести и закончить ее похождениями Пирогова (после похорон Пискарева рассказчик произносит знаменательную фразу: «Мы, кажется, оставили поручика Пирогова на том, как он расстался с бедным Пискаревым и устремился за блондинкою»[560]). Таким образом, понятно, насколько важно соблюдать совокупность ансамбля, называемого «Петербургские повести», как единого текста, состоящего из нескольких глав, объединенных связующей нитью, обозначенной писателем, когда он готовил издание 1842 года.