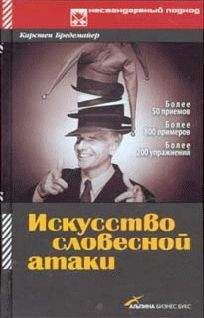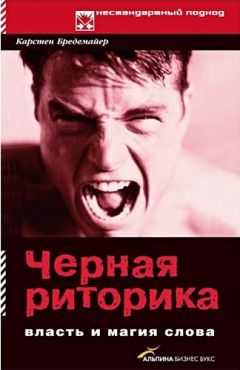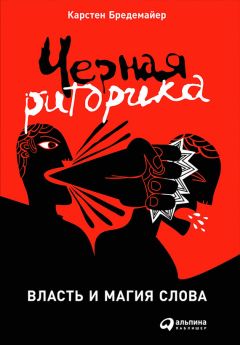Григорий Амелин - Письма о русской поэзии
Бал – предельный образ и чистый случай того, что нельзя выдумать, представить себе, предположить заранее или гарантировать верным планом и какими-то допущениями. Это событие, необратимым образом сказывающееся на судьбе героев, мировая точка, по отношению к которой безразличны все различия, несостоятельны все состояния, кроме одного – испытания чувства. И теперь, когда это случается, нельзя вернуться назад – в былое время совместного хаоса. Бал приводит к denouement heureux, «счастливой развязке» и вскрывает подлинный характер взаимоотношений героев, высвобождая их из плена и замкнутого круга взаимных обид, ревности, нелепых обвинений, страха одиночества и жажды мщения, короче говоря – решительного непонимания. До «фатального дня» (le fatal jour) в «Мулен руж» в отношениях Рауля и Маргариты все действительно движется в дурной бесконечности повтора и топтания на месте (скандал, бурное примирение, опять скандал и т. д.). И несмотря на полюбовность, их сердечный союз, конечно, – бесконечный тупик. Но поездка на праздник – не рядовая интрижка и не случай подловить супруга на пошлой измене, а опыт преодоления себя и преобразования всего своего универсума. Это испытание, устроенное Любовью, которой надоело ждать в уголке большого парка очередного зыбкого перемирия. Герои уверены, что, отправляясь на бал, каждый проверяет другого (Рауль – Маргариту, она – его), чтобы затем получить несомненное моральное превосходство в будущей семейной сцене, но оказывается, что каждый взглянул правде в глаза, развязал безнадежно запутанный узел, дал пинок под зад самой судьбе. Праздник – l'eclair genial de la supreme angoisse. Молния, каким-то добрым гением промелькнувшая на небосклоне высшей тоски. Истина, открытая на острие такой молнии, бьет тебя наповал, и тут не позвонишь лакею, чтобы перевести дух и промочить горло шампанским. Открыть эту абсолютную истину можно только незаместимым актом твоего понимания, которое нельзя ни обойти, ни забыть, как страшный сон. И ты невероятно рискуешь, потому что все может рухнуть навсегда. На твоем гербе девиз: «Or donc provient d'amour la mort». Как бы сказал Пастернак, «на волосок от катастрофы, с заботою о целости». В данном случае катастрофа и есть забота о целостности.
Если на бал Рауль приходит испуганным и потным самцом, злобно оберегающим свою красивую самку, то выходит он хорошо пропеченной личностью, которая получила (и выдержала!) суровый урок: душа его проработана, окована и скована формой, которая сама стоит на ногах и способна производить состояние, неподвластное превратностям фортуны и дурноте необузданного нрава.
Если бы герой шел на маскарад только убедиться в адюльтере партнера, никакого хэппи-энда бы не последовало. Агония семейной жизни продолжилась бы – вне зависимости от того, был бы другой застукан на месте преступления или нет. «Des intérêts de la plus haute importance m’appellent, – говорит Рауль, – à Dunkerque». Только «интересы высочайшей важности» зовут его не в «выдуманный» Дюнкерк, а на бал – на главное приключение своей жизни, когда в конечном счете приходится сменить интерес – на риск, желание – на закон, а обладание – на осмысленное бытие.
Пруст был уверен, что в любви более удачливый соперник (по сути, наш злейший враг) – это, конечно, наш благодетель. Женщине, которая до этого вызывала у нас, к примеру, исключительно физическое влечение, он придает огромную и самодовлеющую ценность. Не будь соперника, удовольствие не превратилось бы в любовь. И не важно, на самом деле есть соперник или это только кажется. Для нашего блага, говорил Пруст, достаточно той иллюзорной жизни, какою его наделяют наши подозрения и наша ревность. Как гласит великолепный немецкий каламбур: Eifersucht mit Eifer sucht, was Leiden schafft. То есть «ревность с рвением ищет то, что творит страсть».
Вопреки расхожему мнению, ревность – не порок и не тяжелый недуг души, свойственный натурам эгоистическим и нравственно-недоразвитым, как думал тот же Белинский, описывая пушкинского Алеко из «Цыган». Ревность, по его убеждению, есть болезнь людей ничтожных, которые не уважают ни самих себя, ни своих прав на привязанность любимого ими существа (и, опять же, не важно – есть для нее достаточные основания или нет). И согласно классическому определению Спинозы: ревность – это любовь, полная ненависти к любимому предмету и зависти к другому, пользующемуся любовью первого. Однако, ревность не является инородной субстанцией и безобразным развоплощением прекрасного образа любви, она охвачена и запатентована самой ее сущностью. Ромео и Отелло зарифмованы Шекспиром теснее, чем сердце и предсердье. Это два предела и две стороны единого чувства. Как говорил Гюго: «… Roméo et Othello, tout le cceur». Горше ревности только один порок – вера в то, что ее может не быть. Положительная и необходимая сила, основа и первейшая тема, ревность пульсирует в самом сердце страсти.
Получив в свое полнейшее распоряжение Маргариту, Рауль в какой-то момент чувствует, что не обладает ею. Да и что значит – обладать? Мы воображаем, что любовь имеет своим предметом существо, которое распростерто перед нами, заключено в определенном теле и легко и законопослушно может быть охвачено объятием. Человеческое лицо похоже на божественный лик из восточной теогонии: это целая гроздь лиц, которые находятся в разных плоскостях, и их нельзя увидеть разом. Любимое существо разнесено и распластано по всем точкам пространства и времени, которые оно когда-то занимало и будет занимать. И оно постоянно ускользает туда, как волна во время отлива. А нам остается без устали мнить, сомневаться, преследовать, ревновать. И всей великой крепостью и несказанной силой ревности мы пытаемся отвоевать любимое существо у той стороны, которая остается вне пределов нашей досягаемости. Но все напрасно, мы не в состоянии удержать ее в пределах своего взгляда и на приколе конечного телесного воплощения. Тело распростерто, обозримо и доступно, но события этого тела происходят не в точке «заземления», принципиально не умещаются в ней. Предмет сердечной привязанности как живая реальность постоянно в движении и меняет место по отношении к нам. Мандельштам бы сказал, что такой предмет можно схватить только в «едином дифференцирующем порыве» (III, 221). Порыв един, но предстает во всем многообразии своих положений, во всей многоразлучной ткани присутствия и неистощимой внутренней расчлененности. Это все равно что поймать грозу в печной горшок! Но без этого нет единого порыва и нет истинного чувства.
Следовательно, я (Рауль, кто угодно), во-первых, должен сложить эти точки и места в одно целое, в один мир, а во-вторых – измениться сам. На самом деле, объединяя и постигая ее мир, я изменяюсь сам (эти моменты связаны и взаимообратимы). Собственно, ревность – это неутолимая тоска по раздробленной и недосягаемой для меня, столикой и стожалой вселенной моей возлюбленной. И личины этой ревности бесконечны – ненависть, зависть, подозрение, тупое страдание и т. д. И что это – если не бесконечность неутолимого страдания? В уже приводившемся немецком каламбуре («Eifersucht mit Eifer sucht, was Leiden schafft») ревность – ища, взыскуя, исследуя, что есть страсть (Leidenschaft), – одновременно выпытывает то, что доставляет нам страдание (Leiden schafft). Оригинальная игра слов хорошо передается по-русски, поскольку русское слово «страсть» включает все значения: от «страсти» как «сильного чувства» – до «страстотерпчества, претерпевания, страдания». Но та же самая ревность с пытливым усердием руководит увязыванием частей распавшейся вселенной и всеми силами стремится достичь единства желанного образа. И это тяжкий труд, а не будуарная нега слепого обладания. Если причина страсти содержится не в предмете страсти, а в ней самой, то не может быть страстей ложных, они все истинны. Страсть – артериальная кровь и вернейшее направление души. И все-таки важна не страсть сама по себе, а пройденный путь и полученный опыт. Она должна быть распята на столпе самопознания. Иначе – караул. Избавляться надо не от ревности, а от глупости. Ревность надо пережить.
И путь героя драмы Алле схематично можно представить как героический переход от пустой и бессмысленной ревности – к ревностности своего чувства. И теперь это, так сказать, ревностность по службе и ведомству любви, которая воздает сполна. В ревности – работа сознания, пафос вызревающего смысла. И разворачивание этого смысла осуществляется по закону того ревнивого подозрения, природу которого не понять одухотворенным пошлякам и полисменам нравов, вроде Белинского. Любовь всегда имеет тревожную тень личного опыта сомнения и мучительного незнания. Рауль остался бы совершенно равнодушным, узнай он, что какая-то незнакомая ему особа идет на встречу со своим любовником. Но тайное свидание Маргариты! Это совсем другое дело. Он затронут этим известием, необыкновенно взволнован и сбит с толку. Рауль имплицирован этой историей, заинтригован этим сообщением, имеющим для него первостепенное значение. Отсюда и начинается движение познания, а не просто хождение на вечеринку. И то, что владеет теперь Раулем, есть путь и способ становления и исполнения его как существа особого порядка, а не взбалмошного типа, движимого «естественными» чувствами ненависти, зависти, подозрительности и проч. Как говорила Цветаева: «Наш захват другого – только в нас. «Для меня тебя в тебе нет, ты вся во мне»» (I, 116). Любя, он в отношении Маргариты впервые создает и воспроизводит саму способность любить. В своей ревнивой страсти, которая Маргаритой не объяснима и не ею вызвана (хотя эмпирически эта страсть и относится к ней и замкнута именно на нее), рождается образ бесконечности. Еще Аристотель говорил: то, ради чего мы любим, намного больше того, что мы любим. И все дело не в ней, а в тебе, и склеить разбитые черепки разновременного и разнопространственного существования любимого существа возможно только в себе самом.