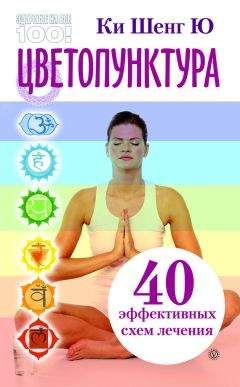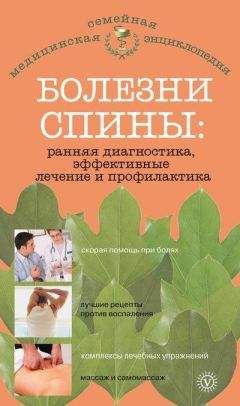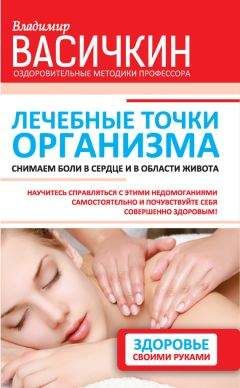Лидия Гинзбург - О психологической прозе. О литературном герое (сборник)
Подобная бинарность присуща также и романтическому конфликту, хотя в системе романтизма значение противоречия совсем другое. Романтическое противоречие философски осмыслялось как полярность (понятие, краеугольное для Шеллинга и всей романтической натурфилософии), как сосуществование противоположностей, нераздельно между собой сопряженных. В плане душевной жизни – это противоречивое единство личности, конечной и одновременно устремленной к бесконечному и сверхчувственному. Пусть ранний немецкий романтизм оправдывает плоть, приемлет материальный мир в мистически просветленном виде. Даже и этот акт предполагает двойственность бесконечного и конечного, преодолеваемую одухотворением конечного.
Поздний романтизм, с его открытым разрывом между мечтой и действительностью, идеальным и материальным, превратил контрасты и антитезы в свой важнейший структурный принцип; причем полярности эти строили именно целостный образ романтической души. Поэтика контрастов по-разному была необходима и поздним немецким романтикам, и Байрону, и Гюго.
Учение ранних немецких романтиков (иенских) о романтической иронии, разумеется, не предполагало прямолинейных контрастов. Романтическая ирония, напротив того, вела сложную философскую игру утверждения и отрицания, созидания и разрушения, смещения и смешения серьезного и смешного, возвышенного и тривиального. Но игра эта была все же игрой с полярностями. Притом ирония ранних романтиков существовала скорее на правах философской и эстетической позиции автора; окрашивая произведение в целом, она с трудом проникала во внутреннее строение персонажа. Она не стала еще психологией[175]. Хотя романтическое смешение разных планов сознания, разных эстетических уровней прокладывало дорогу психологизму будущего реалистического романа[176].
О генетической связи между романтизмом и реализмом писали много. Постоянно указывают и на другой источник реалистического психологизма – аналитический роман, восходящий еще к XVII веку. «Принцессу Клевскую», роман мадам де Лафайет, обычно считают первым аналитическим романом, прообразом психологических романов XIX века. Иногда эта роль переходит к «Манон Леско». Н. Я. Рыкова в статье об «Опасных связях» Шодерло де Лакло пишет, что это произведение «предугадывает роман XIX столетия, предвозвещает Бальзака и Стендаля»[177]. Честь первооткрытия приписана уже трем произведениям, из которых одно появилось в 1678 году, другое – в 1731-м и третье – в 1782 году, что не мешает суждениям обо всех трех быть справедливыми. Элементы, предпосылки тех или иных направлений существуют издавна и периодически возобновляются, заново возникают в разных соотношениях и связях, прежде чем окончательно сложиться в осознанную, сформулированную систему. «Принцессу Клевскую» сближали и с классической трагедией, и с «Максимами» Ларошфуко, имея в виду их скептицизм и жесткий анализ «пружин» человеческого поведения[178]. В «Принцессе Клевской», как и в классической трагедии, психологический чертеж, порою сложный, складывается все же из двух основных и противоположных элементов. Как и в классической трагедии, эта двойственность не обязательно сводится к чистой формуле: страсть и долг. В душевном конфликте принцессы Клевской рядом с долгом – эгоистическая осторожность, разумом внушенное недоверие к тому, что на путях страстей можно встретить прочное счастье. Об этом со всей логической ясностью овдовевшая героиня говорит влюбленному в нее Немуру: «Я не доверяю своим силам, несмотря на все мои доводы. Мой долг перед памятью принца Клевского оказался бы слишком слабым, если бы его не подкрепляли интересы моего покоя…» Механизм все тот же: страсть встречается с другой, противостоящей ей внешней или внутренней силой. И классицизм, и романтизм – каждый по-своему – понимали душевный конфликт как столкновение двух элементов. Это относится и к аналитическому роману, не только к «Принцессе Клевской», но и к той его форме, которую он принял сто с лишним лет спустя, в начале XIX века.
«Адольф» Бенжамена Констана (написан в 1807 году, напечатан в 1815-м) с еще большим правом и уже бесспорно считается «отцом психологического романа». «Адольф», которым восхищались Пушкин и Стендаль, поражает пронзительным анализом, – точность его надолго осталась непревзойденной. Для своего времени это роман подлинных психологических открытий, направление которых Б. Констан сам сформулировал, утверждая, что одна «часть нашего существа… можно сказать, наблюдает за другой»![179] Ограничусь одним развернутым примером изображения душевных процессов в «Адольфе». Отец и друзья отца требуют от героя разрыва отношений с «падшей женщиной», связь с которой губит всю его будущность. Адольф великодушно и твердо отказывается покинуть Элленору, всем для него пожертвовавшую. «Я поднялся, досказывая эту тираду; но кто мог бы объяснить мне, по какой непоследовательности чувство, внушившее мне эти слова, угасло прежде, чем я договорил?»
Адольф всю ночь бродит по окрестностям города, терзаясь мыслями о своей бесплодно проходящей молодости. «Во мне вскипала ярость против нее (Элленоры. – Л. Г.), и по странному смешению чувств эта ярость нисколько не ослабляла ужаса, внушаемого мне мыслью, что я могу ее опечалить». Величие и покой надвигающейся ночи возбуждают в Адольфе тоску по высокому строю мыслей. «Я был занят только Элленорой – и самим собой: Элленора вызывала во мне лишь жалость, смешанную с утомлением; что до меня самого, я уже нимало себя не уважал. Я, можно сказать, умалил себя, замкнувшись в новом виде эгоизма, – эгоизме унылом, озлобленном и приниженном; теперь я радовался тому, что возрождаюсь к мыслям иного порядка, что во мне ожила способность отрешаться от самого себя и предаваться отвлеченным размышлениям…» И наконец, под влиянием размышлений о тщете жизни и неизбежности смерти возбуждение Адольфа утихает. «Все мое раздражение исчезло; впечатления минувшей безумной ночи оставили во мне лишь чувство беззлобное и почти спокойное: быть может, физическая усталость, овладевшая мною, способствовала этому умиротворению». Подробно прослеженный в своих изменениях ряд душевных состояний разрешается успокоением, для которого автор предлагает физиологическую мотивировку. Это не случайно для Констана, прошедшего школу французского сенсуализма, хотя позднее, в 1800-х годах, он и боролся против идей просветительной философии.
Наряду с физиологическими импульсами поступков и «душевных состояний Констану знакомо уже и бессознательное[180]. По поводу вещей, которые человек скрывает не только от других, но и от самого себя, Констан заметил: «Но то, о чем умалчивают, однако же существует, а все, что существует, угадывается». В другом месте еще отчетливее сказано о бессознательном, вступающем в поле сознания. Во время одного из объяснений Элленора упрекает своего любовника в том, что он не любит ее, а только жалеет. «Зачем она произнесла эти роковые слова? Зачем открыла мне тайну, которую я не хотел знать? Я всячески старался разубедить ее, возможно, достиг цели, но истина проникла в мою душу; порыв иссяк…»
Анализ Бенжамена Констана заставляет порой вспоминать роман XX века. Так, коллизия вечной жажды недостижимого и ускользающего и мгновенного охлаждения к достигнутому облечена в психологические формы, которые предстают нам как прустовские. «Я так страстно желал этой встречи, что она казалась мне неосуществимой… Наконец бой часов возвестил мне, что пора отправиться к графу. Мое нетерпение внезапно сменилось робостью; я одевался медленно; я уже не торопился ехать. Меня так страшила мысль, что мои надежды будут обмануты, я так живо ощущал ту боль, которую мог вскоре испытать, что охотно согласился бы на любое промедление». И еще: «Нам мнится, что мы с нетерпением ждем дня, который назначили себе для разрыва, – но когда этот день настает, нас проницает ужас; и таковы причуды жалкого нашего сердца, что мы жестоко страдаем, покидая тех, возле кого пребывали без радости»[181]. Но собственная, неповторимая тональность «Адольфа» заключается именно в том, что сквозь извилистое психологическое движение, сквозь все эти «прустианские» комплексы проступает отчетливая аналитическая схема.
Пушкин воспринял «Адольфа» как роман предбайронический. «Бенж. Констан первый вывел на сцену сей характер, впоследствии обнародованный гением лорда Байрона», – писал он в заметке о переводе «Адольфа» Вяземским. Но в «Адольфе» «сей характер» исследуется еще в рационалистической традиции, рационалистическими средствами. Мы сразу узнаем классические «пружины», читая в самом начале романа, «что требуется некоторое время для того, чтобы привыкнуть к роду человеческому, каким его сделали своекорыстие, жеманство, тщеславие, страх». Самое повествование построено так, что прямой авторский анализ (от лица рассказчика) сгущается от времени до времени в резко очерченные афоризмы: «Глупцы делают из своей морали нечто целостное, нераздельное, дабы она как можно меньше соприкасалась с их поступками и предоставляла им свободу во всех частностях». Иногда напоминающие Ларошфуко максимы врезаются в повествование как острие медленно разворачивающегося психологического процесса: «Я пытался пробудить ее великодушие, как будто любовь не самое эгоистичное из всех чувств, и поэтому, когда оно уязвлено, наименее великодушное».