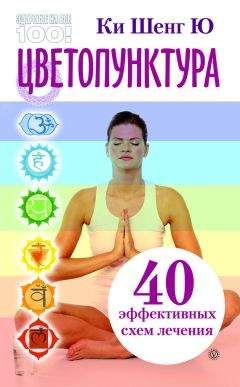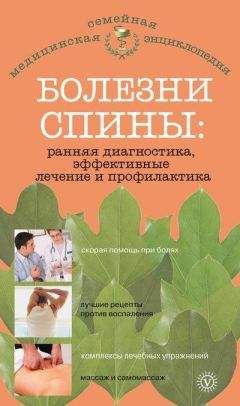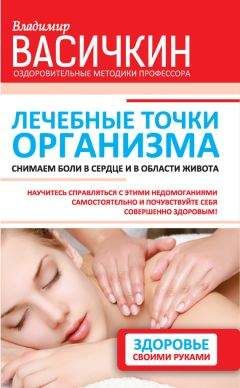Лидия Гинзбург - О психологической прозе. О литературном герое (сборник)
Тема раскаяния в «Былом и думах» остается за текстом (самообвинение ослабило бы удар по врагу). Это даже не столько тема, сколько психологический импульс; порожденная им обязательность воспоминания предстает не сама по себе, но обобщается до идеи творческой памяти. «Прошедшее… остается, как отлитое в металле, подробное, неизменное, темное, как бронза… Не надобно быть Макбетом, чтоб встречаться с тенью Банко; тени – не уголовные судьи, не угрызения совести, а несокрушимые события памяти» (глава «Oceano nox»).
Деянием и познанием снимаются страдания, вина, неудача – из этого убеждения возник первоначальный замысел «Былого и дум» (впоследствии разросшийся в огромное полотно общественной жизни). Задуманное произведение – не только месть и искупление, но также и акт художественного познания, спасающий прошлое для будущего, превращающий прошлое в историю и в искусство. Это чувство прошедшего, которому творческий человек не имеет права дать исчезнуть бесследно, этот историзм в самом дробном, самом личном его проявлении соотнесен с герценовским чувством истории как общего прошлого, живущего в общем сознании.
Проблемы психологического романа
1
Соображения о психологическом романе (в основном XIX века), высказанные в этой, третьей, части настоящей книги, не только не являются историей романа (что само собой разумеется), но не являются и теорией романа как особого рода словесного искусства. Речь идет лишь о некоторых проблемах романа и в одном только аспекте – аспекте художественного познания душевной жизни и поведения человека. Поэтому в основном я говорю здесь о тех писателях, чье творчество особенно отчетливо выявляло сменяющиеся принципы, очередные стадии этого художественного познания.
Темы этого раздела так или иначе все приводят к Толстому. Это закономерно. Творчество Толстого – высшая точка аналитического, объясняющего психологизма XIX века (творчество Достоевского основано на других принципах), все его возможности выразились у Толстого с предельной мощью и с той последовательностью, которая означает не нарастание, не развитие предшествующего, но переворот. Творения Толстого являются поэтому единственным в своем роде материалом для постановки теоретических вопросов художественного психологизма. Одно из основополагающих открытий Толстого – это открытие нового отношения между текучим и устойчивым началом душевной жизни. К художественному познанию человека по-своему может быть применено то, что психологи называют «стереотипизацией» психических процессов. Называние, определение словом уже само по себе обобщает, абстрагирует, закрепляет явление, и нужны особые усилия, дополнительная работа словом, чтобы отчасти вернуть явлениям их единичность и их динамику.
По мере развития художественного психологизма возрастала динамичность изображения человека, но динамика не отменила стереотипизацию, она ее преобразовала. Без «стереотипов» устремлений, страстей, без слагаемых образа, как бы их ни называли – свойствами, качествами, чертами характера, – нельзя было изобразить человека и его поведение ни в XIX, ни в XX веке, хотя это были уже не те свойства и страсти, которыми наделяла своих персонажей литература XVII или XVIII веков.
В XX веке, впрочем, делались попытки избавиться от психологического обобщения. На многих участках западной прозы XX века наблюдается убывание характера. Если Толстой высвободил процессы, сделав их предметом художественного исследования (о чем писал еще Чернышевский), то теперь человека пробовали свести к процессам. Французский «новый роман» 1950–1960-х годов теоретически хотел представить более или менее чистые процессы, так сказать, процессы без человека, в идеале – чистую текучесть, что невозможно, поскольку противоречит самой природе искусства как значащей и организующей формы. Самое слово есть уже остановка потока и покорение хаоса.
Некоторые участники дискуссии о «новом романе» (1959) утверждали, что обозначать действующих лиц именами – это способ, изобличающий устарелое статическое понимание человека. Он не соответствует стремлению изобразить – вместо персонажа – только состояния, колеблющиеся у границы сознания и подсознательного. Какой же, однако, предлагается выход? – заменять имена местоимениями он и она[174]. Местоимение же определяется как часть речи, указывающая на предмет (его не называя). Замечательное по наглядности подтверждение того, что там, где в искусстве разрушают одну структурную связь, на месте ее тотчас возникает другая. Персонаж, впрочем, действительно может быть сведен к минимуму, лишен сколько-нибудь отчетливых очертаний, но тогда эти структурные очертания приобретает процесс – в качестве предмета изображения.
Литературный персонаж – это серия последовательных появлений или упоминаний одного лица. Изображение его слов, действий, внешних черт, внутренних состояний, повествование о связанных с ним событиях, авторский анализ – все это постепенно наращивается, образуя определенное единство, функционирующее в многообразных сюжетных ситуациях. Формальным признаком этого единства является уже самое имя действующего лица. Структурное единство, принцип связи отдельных, последовательных проявлений персонажа закладывается его экспозицией, той типологической моделью, которая нужна для первоначальной ориентации читателя, – об этом уже шла речь во введении к настоящей книге.
Пока персонаж был маской, или идеальным образом, или социально-моральным типом, единство его создавалось повторением, возобновлением устойчивых признаков, свойств, однородных или контрастных. Но вот персонаж стал характером, динамической, многомерной системой, в которой производные признаки сложным путем возникали из первичных социальных, биологических, психологических предпосылок. Характер – это отношение элементов, и принцип их связи получает здесь новое, решающее значение. Принципы связи предлагались разные, даже в пределах романа второй половины XIX века. Нельзя понять и воспринять в его структурном единстве поведение героев Золя без механизма биологической преемственности, наследственности; героев Тургенева – без исторической специфики самосознания сменяющихся поколений русской интеллигенции; героев Достоевского – без той идеи, нравственно-философской задачи, которую решает каждый из них. Писатель может сам объяснить принцип единства своего персонажа, а может доверить объяснение читателю.
Изображая отношения между человеком и внешним миром, рационалистическая поэтика трактовала этот мир как предмет устремлений человека. Устремления эти и их объекты могут быть возвышенными (герой од и поэм, проявляя доблесть, достигает желанной славы) и могут быть «низкими», соответственно чему жизненный материал и распределялся по жанрам. Господствующие свойства – своего рода сгустки этих устремлений. Таковы скупцы, честолюбцы, лицемеры, распутники классической комедии, сатиры, классических «характеров» и мемуаров. В сатирически-комедийном плане свойства, слагающиеся в сословно-моральный тип, замкнуты в себе, тяготеют к однопланным типологическим наборам. Часто рационалистический тип образуется из единого свойства и тогда как бы представляет собой это свойство, развернутое в пространстве. В трагедии отношение человека к объектам его устремлений предстает как разрушающая норму гибельная страсть. Страсть у великих драматургов классицизма исследуется сложно и тонко, с переходами и оттенками, но это именно анализ страсти, а не человека, который проще, элементарнее своих страстей.
В романтическом характере свойства и страсти как структурные единицы не исчезают. Напротив того, они приобретают отмеченную Г. А. Гуковским повторяемость, тогда как рационалистическая литература наделяла своих персонажей типологическим разнообразием (хотя и ограниченным). Романтизм не мог обойтись без отдельных элементов – стереотипов душевной жизни, но он коренным образом изменил принцип их связи. Романтизм имеет дело не с типологической суммой свойств, не с механизмами и пружинами поведения, но с метафизически понимаемой целостностью души. Отдельные элементы сплавились в единство личности, неведомое рационализму с его рядополагающимися, закрытыми свойствами. Соответственно, в этой системе по-новому предстало противоречие.
Не XIX век, с его психологическим романом, открыл противоречия душевной жизни. Они известны были искони и только меняли формы и функции. Произведение словесного искусства протекает во времени, следовательно структуры, им создаваемые, должны быть приведены в движение. А движение – это противоречие, конфликт. В поэтике классицизма противоречия душевной жизни имеют формально-логическую основу; это столкновение разнонаправленных, но замкнутых единиц. Они чередуются, вытесняют, заменяют друг друга, образуют разные конфигурации, не теряя ни своей непроницаемости, ни твердых своих очертаний. Классическая трагедия сталкивала в одном человеке две разнонаправленные страсти или страсть и долг. Непрерывно возобновляясь, столкновение порождает зигзагообразное развитие состояний души – предмет тонких художественных изучений; но это всегда столкновение двух начал.