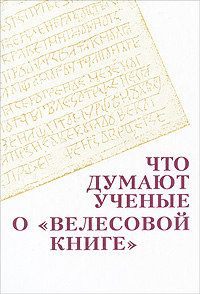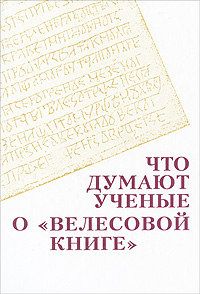Людмила Гоготишвили - Непрямое говорение
Под эйдетикой Гуссерля здесь и далее имеется в виду, в соответствии с гуссерлевой терминологией в «Идеях 1» (см., в частности, § 5, 9), уровень непосредственно созерцаемых идеальных смыслов, «видов», идей, сущностей, общих «истинных предметов» как идеальных общезначимых смыслов. [152] Выбрав то из гуссерлевых наименований «единиц» этого уровня, которое активно использовал Лосев, мы далее будем в местах, не требующих более подробной дифференциации априорно идеальных смысловых предметностей, называть все их разновидности «эйдосами».
Разделяя саму идею эйдетического уровня, Лосев, однако, оспаривал у Гуссерля объем его толкования: наряду с тем, что относил к эйдетическому уровню Гуссерль, Лосев присовокупил к нему дополнительные смысловые аспекты, о чем и будет подробно говориться ниже, поскольку именно с этим обстоятельством непосредственно связана радикальная лосевская новация. Наличие при исходном согласии в общей концептуальной идее серьезных пунктов спора с Гуссерлем (в которых Лосев солидаризовался в том числе и с неокантианством, тоже не соглашаясь с последним полностью) ведет к тому, что интерпретация лосевской темы о разном количестве признаваемых этими направлениями уровней чистого смысла не может быть построена в линейно развивающемся логическом ключе; она требует многоходового «челночно-возвратного» рассмотрения.
Исходная точка лосевского толкования сути разногласий между феноменологией и неокантианством по поводу «количества уровней» фиксировалась им следующим образом: равно исходя из принципа приоритета чистого сознания, эти направления по методам рассмотрения смысла, а следовательно и по выводам, противоположны. Лосев точечно закреплял эту противоположность в абстрактно звучащем противопоставлении: интеллектуальный импульс феноменологии Гуссерля, предопределивший его понимание строения априорной смысловой сферы, определялся Лосевым как статичный, неокантианства – как динамичный. Самим Лосевым эти антиномичные посылки (статика и динамика) в понимании чистого смысла оценивались – в случае, если одна из них берется в изоляции от другой или в качестве доминирующей, – как односторонние.
Обоснование положения об односторонности интеллектуальных импульсов феноменологии и неокантианства велось Лосевым через их взаимное поэлементное сопоставление (недостатки статики иллюстрировались преимуществами динамики и наоборот): метод Канта и неокантианцев можно понимать как ограниченный «сферой смыслового становления смысла (или понятия, числа). Из него выпадает смысловая ставшестъ, или наглядный рисунок и структура смысла, как, наоборот, из чисто феноменологического метода в духе Гуссерля выпадает всякое становление, всякий регулятивизм и функционализм при постоянном внимании как раз к статическим смысловым структурам и рисункам. Трансцендентальный метод Канта динамичен, феноменология Гуссерля – статична» (ДХФ, 171–172).§ 5. Имелись ли основания для противопоставления «статичности» феноменологии – «процессуальности» неокантианства? Были ли причины для такой лосевской оценки гуссерлевой феноменологии, сказать со всей определенностью трудно, несмотря даже на то, что упрек в статическом платонизме – один из наиболее частых в оценке гуссерлевой концепции, вплоть до последнего времени. [153] Сам Гуссерль отвергал этот упрек – как если и отражающий его позицию, то только на самых ранних этапах и уж никак не в «Идеях I», [154] которые по времени публикации уже учитывались Лосевым начала 1920-х гг. Так что данное точечное лосевское обозначение противостояния невозможно понимать буквально, потому что это сразу же столкнет его «лоб в лоб» с тем очевидным обстоятельством, признаваемым в том числе и многими критиковавшими и критикующими феноменологию за статичность, что сначала латентно, а с 1910-х гг. эксплицитно Гуссерль акцентировал внимание не на статичной данности (предданности), а на трансцендентальном генезисе (что и отразилось в придании особой значимости ноэматическому составу), на сознании как потоке, на актах сознания (ноэсах), конституирующих ноэмы (генетический аспект), то есть на динамических составляющих чистого сознания, включая и его временное измерение. Именно эта генетически динамическая сторона часто расценивается как специфика и главная философская заслуга гуссерлева подхода.
Поскольку «Идеи 1» хорошо были Лосеву известны, следует, видимо, предполагать, что смысл лосевской критики был иным. Во всяком случае, упрекая Гуссерля за статичность, Лосев никак не мог мыслить эту статичность платонической, поскольку в лосевском толковании Платон не только не был сторонником статики идей, но, напротив, был основателем концепции их динамической генетической взаимосвязи: «Диалектика „Софиста“ и „Парменида“ показывает, как органически один эйдос рождает другой и как это живое единство требуется самою мыслью… Он (Платон. – Л. Г.) показал, что и мыслить иначе нельзя. В этом… его… единственная философская заслуга» (ОАСМ, 237). Таким образом, хотя при работе над ФИ по историко-временным причинам учитывался только Гуссерль периода до – включительно – «Идей 1», Лосев не мог упустить из виду динамическую составляющую гуссерлианства, так что он, несомненно, учитывал гуссерлианский генезис – но не в обсуждаемой оценке феноменологии как «статической», а в других контекстах: там, где речь непосредственно идет об актах сознания (о связи ноэтики и ноэматики). В процитированном же символически кратком обозначении оппозиции, относящем феноменологию к статическому полюсу, речь у Лосева идет не о динамичной природе самого сознания, не о структуре и механизмах сознания и о его актах, конституирующих ноэмы, не о логике и естественном языке, а о понимании природы и статуса идеальных смысловых предметностей, или «истинных предметов» – эйдосов, и, соответственно, исключительно об эйдетическом уровне чистого смысла, который мыслится в феноменологии как априорно самоданный в определенных способах своей «как-данности» и – в качестве такового – как не зависящий от актов сознания, в том числе логических и языковых (хотя он и может пониматься как достигаемый за счет определенной последовательности актов сознания). Если ноэмы конституируются сознанием, то эйдосы преднаходятся.
Лосева в вопросе о статике интересовала, по-видимому, именно эйдетика (см. выше о Платоне, обосновавшем, с точки зрения Лосева, самодвижение эйдосов), так что скорее всего именно понимание Гуссерлем природы смысловых предметностей на эйдетическом уровне, обновленное и обогащенное обоснование которого расценивалось Лосевым в качестве главной философской заслуги Гуссерля, и считалось односторонне «статичным». Какие можно увидеть основания для этого? Вот характерное описание Гуссерлем эйдетического уровня (применительно к геометрическим фигурам): «…геометрическое существование не психично, это ведь не существование частного в частной сфере сознания; это существование объективно сущего для „каждого“ (для действительного или возможного геометра или понимающего геометрию). Да и от самого своего учреждения оно обладает во всех своих особенных формах своеобразным, сверхвременным – в чем мы уверены для всех людей, прежде всего для действительных и возможных математиков всех народов и времен – доступным бытием. И любые кем бы то ни было на основе этих форм произведенные новые формы тут же принимают такую же объективность. Это, заметим, объективность „идеальная“… Чувственные выражения, как и все телесные процессы или все, что воплощено в телах, имеют в мире пространственно-временную индивидуацию; но не такова сама духовная форма, которая и называется „идеальной предметностью“» . [155]
В феноменологии последнего времени эйдетика Гуссерля в большинстве случаев оспаривается – с тех или иных позиций, [156] т. е. оспаривается уровень, на котором считаются априорно самоданными «идеальные предметности». «идеи», «сущности», «эйдосы» и качественные свойства наполнителей которого понимаются как енепространственные и вневременные и как не зависящие от актов сознания, будь то спонтанные, организованно-целенаправленные или рефлексирующие акты (логические, языковые, аксиологические и др.) В мягких вариантах эйдетика отодвигается при интерпретации Гуссерля на второй план в пользу первостепенности рассмотрения им динамических аспектов и актов сознания, поскольку, например, считается, что в рамках гуссерлева подхода статус самоданной и очевидной «истины» может быть объяснен только через «ссылки на акт сознания» , [157] в котором эйдос самодается.
Взаимоотношения между, с одной стороны, априорно самоданным и, с другой, актами созерцающего восприятия, выражения, представления, мышления и т. д. этого «самоданного», действительно, находятся в центре внимания Гуссерля (как окажутся они в центре внимания и Лосева). Но сама возможность и смысловая направленность такой постановки вопроса фундированы у Гуссерля признанием эйдетического уровня, которое, и по Лосеву, первостепенно по отношению к толкованию актов сознания, поскольку первое придает специфику второму, а не наоборот. Смысл критической позиции Лосева, таким образом, иной, нежели в современной феноменологии: он не отрицал и не игнорировал гуссерлеву эйдетику, как это делается в большинстве современных версий неофеноменологии, а, признавая, предлагал ее расширенное понимание. Сознание может рассматривать те или иные (или все) свои акты как ненаправленные на созерцание этого уровня или как независимые от него, тем не менее этот уровень, согласно Гуссерлю (и разделяющему этот тезис Лосеву), в этих актах так или иначе «участвует»: «Слепота к идеям – нечто вроде душевной слепоты: вследствие предубеждения люди уже не способны доставлять в поле своих суждений то, чем они обладают в поле созерцания. На деле же все и, так сказать, беспрерывно видят „идеи“ и „сущности“, оперируют ими в своем мышлении, осуществляют суждения относительно сущностей, – только что в своей теоретико-познавательной „позиции“ отрекаются от них. Очевидные данности терпеливы, – пусть теории прокатываются над ними, они остаются тем, что они суть» («Идеи 1», § 23 «Упрек в Платоновом реализме»).