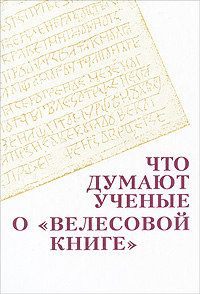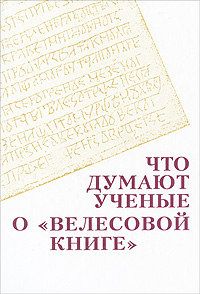Людмила Гоготишвили - Непрямое говорение
Относительно малая по сравнению с возможными теоретическими ожиданиями агрессивность экспансии даже предельно жесткой версии полифонии в двуголосый архетип подтверждает, что полифония задумывалась Бахтиным не как синоним двуголосия и не как сущностное опровержение двуголосия, а как его «гениальная» стадия, как символический антоним двуголосия. В этом смысле бахтинские двуголосие, монологизм и полифония подобны ивановским хаосу, восхождению и нисхождению. Вспомним образ Афродиты из концовки ивановской статьи «О Нисхождении», процитированной Бахтиным в его лекции об Иванове: «Из пенящегося хаоса возникает, как вырастающий к небу мировой цветок, богиня – Афрогения, Анадиомена. Пучиной рожденная, подъемлется – и уже объемлет небо – Урания, Астерия. И, златотронная, уже к земле склонила милостивый лик; улыбчивая, близится легкою стопою к смертным…». Согласно бахтинской теории, монологическая проза как система намеренных и художественно обработанных двуголосых гибридных конструкций рождается из темного органического двуголосия, как ивановская Афрогения из пенящегося хаоса – с тем чтобы через восхождение укротить хаотичную энтропию темного двуголосия; полифония же, в свою очередь, рождается из художественно организованного монологического двуголосия, как ивановская Урания, той же двуголосой пучиной рожденная, но уже объемлющая небо и в даре нисхождения к земле склонившая милостивый лик – дабы смирить гордыню монологического восхождения из темного двуголосия и тем полнее возродить искомую амбивалентность архетипа, связующего землю и небо, автора (героя) и хор.
Впрочем, все это остается в рамках концептуальных домыслов. Даже если в глубине бахтинской концепции и имелась установка на поиск единой полифонической конструкции, способной преодолеть частность собственно языковых архетипических структур и тем ворваться внутрь общих инвариантных архетипов, решительных шагов в сторону жесткой лингвистической версии полифонической идеи Бахтин не делал.«Эйдетический язык» (реконструкция и интерпретация радикальной феноменологической новации А. Ф. Лосева) [141]
Глава 1. Исходный философский контекст и сопутствующий лингвистический фон
1.1. Исходный философский контекст зарождения лосевской новации
§ 1. Почему – «реконструкция»? Основные идеи лосевской философии языка сложились в 1920-е гг. и оставались, как здесь предполагается, в своих основных очертаниях неизменными вплоть до последних работ. [142] В наиболее концентрированном виде они отражены в книге «Философия имени», замысел которой состоял в попытке радикального переструктурирования общего концептуального пространства тогдашнего научно-философского и гуманитарного мышления. Понятно, что масштабность замысла вступила в конфликт с небольшим объемом «Философии имени»: многое не только из деталей этого замысла, но и его несущих концептуальных конструкций осталось не поддающимся изнутри самого этого текста адекватной реконструкции и интерпретации. С течением времени, конечно, общий смысл лосевского замысла «Философии имени» и его конечная цель стали проявляться более отчетливо благодаря, с одной стороны, другим развивающим и раскрывающим этот замысел текстам самого Лосева – как более поздних периодов, так и ранних, включая те их них, которые стали известны в результате архивных разысканий лишь в последнее время, с другой стороны, благодаря постепенному прояснению особенностей лосевской философии языка на фоне содержательных разногласий лингвистических дискуссий последующих десятилетий. Вместе с тем, говорить о полной ясности пока не приходится, тем более что различные терминологические и контекстуально-исторические содержательные наслоения создают дополнительные трудности восприятия собственно содержательного наполнения лосевских лингвофилософских текстов.
Тем не менее, мы попытаемся реконструировать радикальное феноменологическое ядро лосевской философии языка, общее, как здесь предполагается, для большинства его работ. Обилие лосевских текстов по языку, писавшихся с начала 20-х по конец 80-х гг., работает в этом отношении против читателя: дело не только в текущих изменениях терминологического состава и стиля лосевского дискурса, но и в том, что подавляющая часть его исследований фактически написана в качестве разделов или авторских примечаний к некой большой единой книге, ее же – условно – «Введение» и общеконцептуальная часть остаются читателю, часто знакомому лишь с отдельными книгами, неизвестными. Ситуация усугубляется и тем, что концептуальная сторона так и не была по разным причинам прописана Лосевым полностью и в деталях, отчего, как мы прекрасно осознаем, любая попытка обрисовать контуры и реконструировать концептуальное ядро лосевской философии языка – вещь рискованная, уже хотя бы потому, что сама постановка такой цели предполагает одновременно и упрощение, и заострение формулировок, а в применении к Лосеву концентрированная радикализация его идей может привести либо к невольному проведению слушателей «мимо» смысла, либо к эпатажу. Однако в случае удачи заостренная обрисовка радикального ядра лосевской философии языка может действительно «представить» Лосева, послужить его узнаваемой и уникальной визитной карточкой в области феноменологии языка и философии в целом.
§ 2. Феноменология, неокантианство, символизм, имяславие. С концептуально-терминологической точки зрения то смысловое пространство, на фоне которого Лосев выстраивал свою языковую концепцию в конце 1910-х – 1920-х гг., можно зафиксировать как образованное концептуальным полемическим скрещением феноменологии и неокантианства. Имеются в виду прежде всего схождения и расхождения между Гуссерлем (1900-х и 1910-х гг.) и марбуржцами (чаще всего Лосев упоминает П. Наторпа, Г. Когена и Э. Кассирера), но одновременно и расхождения Гуссерля с Кантом. Не те противоборства, которые стояли тогда в центре всеобщего внимания (напр., феноменологии и психологизма, трансцендентализма и философии жизни), а именно это острое и содержательно насыщенное смысловое скрещение в рамках общего для обеих сторон трансцендентального смыслового поля оценивалось Лосевым как основная интрига и сюжетообразующая сила тогдашнего философского мышления. [143] С другой стороны, концептуальный спор между этими направлениями воспринимался, конечно, Лосевым не как нечто принципиально новое в истории философии, а как очередное историческое обострение борьбы платонизма и аристотелизма, обогащенное кантовской и посткантовской философией; в этом смысле все нижесказанное о лосевском понимании и разрешении спорных проблем между феноменологией и неокантианством имеет опосредованное отношение и к особому лосевскому толкованию проблемы взаимоотношения платонизма и аристотелизма.
Разумеется, лосевская интерпретация феноменологии и неокантианства – сугубо авторская; и конечно, она существенно отличается от сложившихся на сегодня представлений и оценок. Для нас здесь, однако, будет важно не сопоставление лосевской и других интерпретаций этих направлений в поисках скорее всего отсутствующего решения вопроса о том, какая из них наиболее адекватна, а по возможности как можно более точное по внутреннему смыслу восстановление именно лосевского понимания того интеллектуального раскола в гуманитарном мышлении, выражение которого он видел в противостоянии феноменологии и неокантианства. Расценивая этот раскол как сжатую пружину дальнейшего движения гуманитарного мышления в правильном, с его точки зрения, направлении, [144] Лосев и предлагаемую им от себя лингвистическую концепцию исходно локализовал в этом же концептуальном поле.
«Локализовал», но не ограничивал. Для реконструкции лосевской теории двух осей мало: Лосев дополнял эту исходную двухосевую схему третьей, концептуально схожей, по лосевской оценке, осью – осью символизма (понятно, что вместе с символизмом в лосевской концепции окрепла тема непрямого говорения, имманентно содержавшаяся, с его точки зрения, в трансцендентальной философии [145] ). Символизм Лосев брал в том виде, в каком он сформировался в версии Вяч. Иванова, но, конечно, и здесь не обошлось без авторских модификаций. В частности, символизм необходимо было, по мысли Лосева, довести до «лингвофилософского» конца, и таким конечным пунктом было для Лосева имяславие, составившее, как известно, радикальный фермент лосевской философии языка. В случае ее правильного и корректного введения в пространство философского и гуманитарного мышления сим-волическо-имяславская идея должна была, по-видимому, привести, согласно лосевскому замыслу, к многообещающей для философской лингвистики трансформации этого пространства. Выбор Лосева пал на феноменологию и неокантианство в том числе и потому, что именно они оценивались как создающие потенциально благоприятную почву (или недостававшие ранее «компонующие узлы») для искомой Лосевым возможности интеллектуально корректно привить к древу философского и гуманитарного мышления сим-волическо-имяславскую «ветвь». Без символической составляющей феноменология и неокантианство в конечном итоге в области языка, по Лосеву, бессильны, но (и это следует подчеркнуть особо) и символизм без неокантианства и феноменологии – тоже.