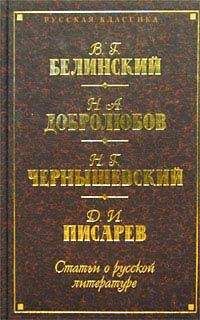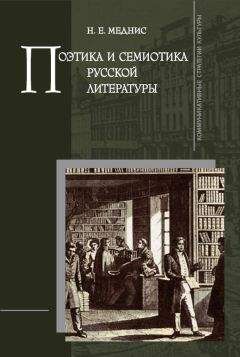Сергей Бочаров - Филологические сюжеты
Роман открывается внутренним монологом: Так думал молодой повеса. Сразу, без предисловий, мы в его мире и вместе с ним, в его «внутреннем мире» даже. Но тотчас же во второй строфе заплетается узел противоречий, и нам представлен герой моего романа – как будто бы в той же плоскости то же лицо, однако он явлен нам по—другому. Уже мы не вместе с ним и видим его из другой действительности как героя романа. Автор снова объединяет и смешивает, но через это как раз разделяет и раздвигает, строит дистанцию именно там, где, кажется, совсем потерял её. Мы в независимом мире «внутри», вместе с его людьми, не знающими о творении и творце, и даже автор «гуляет» по этому миру его персонажем, и мы вне этого мира вместе с его создателем, на космической позиции по отношению к этому миру. Замкнутый образ мира в романе плюс образ романа: эти два плана вместе – единый план романа в стихах. Роман героев изображает их жизнь, и он же изображён как роман. Мы прочитываем подряд:
В начале нашего романа,
В глухой, далёкой стороне…
Где имело место событие, о котором здесь вспоминают? Нам отвечают два параллельных стиха, лишь совокупно дающих пушкинский образ пространства в «Онегине». В глухой стороне, в начале романа – одно событие, точно локализованное в одном—единст—венном месте, однако в разных мирах. В глухой, далёкой стороне взято в рамку первым стихом; мы их читаем следом один за другим, а «видим» один в другом, один сквозь другой. И так «Евгений Онегин» в целом: мы видим роман сквозь образ романа.
Итак, роман героев не равен роману Пушкина, их границы не совпадают. Роман Пушкина «больше» (или «шире») романа героев: образ мира в романе «в третьем лице» объемлется образом сознания автора «в первом лице». Этот «плюс» к роману героев именуют обычно «отступлениями», следом за словом автора в тексте (5, XL); между тем, мы видели, это в известном смысле первоэлемент романа Пушкина, первичная реальность его. Речь «от автора», образ «в первом лице» не отступает от главного в сторону, но обступает со всех сторон. Роман Онегина сразу показан как мой роман, Онегин – как мой герой. Это универсальное мой – предпосылка всего, чем наполнен «Евгений Онегин»; всё, что сюда из мира вошло, вовлечено этим личным моим отношением, помечено первым лицом, является с этим знаком. Мои богини! что вы? где вы? Я шлюсь на вас, мои поэты, Весна моих промчалась дней, Нет, не пошла Москва моя: все первые лица из одного источника и ведут к одному центру и этим равны друг другу. Но в то же время они не равны: герой моего романа – добрый мой приятель. От единого центра эти мои отношения разно направлены в окружающий человеческий мир или же в «мир» романа. Переходами первого лица и строится разноплановая композиция романа в стихах. Г. О. Винокур писал, вспоминая формулу об «энциклопедии русской жизни» Белинского: «Но в этой энциклопедии все отделы подписаны одним и тем же именем, и потому для неё понадобилась необычная и специфическая форма. Эта форма должна была позволить автору не только вместить весь его материал в одну общую раму, но также совместить различные пласты этого материала и разместить его надлежащим образом в соответствии с замыслом».[34]
Нам надо ближе теперь рассмотреть, как материал совмещён и размещён «в одной общей раме». Парадоксальный смешанный мир, который сложился уже во второй строфе и тут же стал разделяться, и в целом плане романа членится и распадается, чтобы снова отождествляться, объединяться в целое; членится сплошное повествование, бегущее непрерывно. Сложность пушкинской композиции – в одновременности чувства единства и несовместности; несовпадающие реальности скрываются в том, что можно на материале романа определить однозначно как «мир», «действительность», «я»; структура их образов неоднородна, разноречива. В сплошной действительности, представленной Пушкиным, нам различается не одна, а, пожалуй, несколько неоднородных «действительностей» (и им соответствующих повествовательных рядов в одном непрерывном повествовании), переходящих одна в другую, парадоксально соотнесённых. Их можно было бы условно определить как «действительность Онегина» (роман героев, в собственном смысле роман), «действительность я» (человеческий опыт я, его лирика, «отступления»), наконец, «действительность автора», пишущего роман. Эти действительности «продолжают» одна другую, так что человеческий опыт я совмещается с действительностью Онегина, а в свою очередь я естественно совмещается с автором. Результат, однако, парадоксален: образовавшийся из этого совмещения планов единый план и есть тот несовместимый мир, который мы созерцаем уже во второй строфе. Мир, где живут герои романа и здесь же пишется этот роман, – в той же самой одной общей плоскости.
В давней статье В. Шкловский писал об идее «одного остроумного художника» иллюстрировать в романе Пушкина не сюжет Онегина и Татьяны, а главным образом «отступления»: «…с точки зрения композиционной это будет правильно».[35] Однако именно с точки зрения композиционной это будет так же односторонне (вероятно, всё—таки более односторонне), как иллюстрировать только сюжет героев. Для В. Шкловского в той статье собственно композиционная роль принадлежит у Пушкина «отступлениям», перебивающим роман героя с Татьяной и показывающим конструкцию вместо наивного переживания «жизни», показывающим эту изображённую жизнь как лишь «материал для сюжетного оформления». Но «жизнь» романа сама по себе уже есть композиция и как таковая участвует в более общей у Пушкина композиции целого; она соотносится с областью «отступлений», а они ведь тоже являются «жизнью»; целая композиция возникает из этого отношения планов. Мысленно зримый эквивалент композиции этой – как будто двустворчатая развёрнутая картина, диптих, дающий нам обозреть «расщеплённую двойную действительность»[36] в параллельном созерцании и взаимосравнении планов. Так что читающее сознание «смотрит» на две стороны от композиционной оси – мы видим героев в их ситуациях, а рядом параллельной серией кадров: я бродит у моря и ждёт погоды, сходится при разъезде на крыльце с семинаристом в жёлтой шале иль с академиком в чепце, пишет в уездной барышни альбом, душит трагедией в углу, доволен, въезжая в Москву, и пр. «С точки зрения композиционной» интересно и важно, как переходят одна в другую эта действительность я и изображённая «жизнь» романа героев – продолжает одна другую в едином мире или они взаимно относятся как—то иначе и их не соединить в одном измерении.
Кажется по всему, что Онегин и я измерены одними предметами, присутствуют вместе в мире; действительность я и роман героев приравнены, совмещены в одной общей плоскости.
Вот, например, из множества случаев такого приравнивания масштабов: Так люди (первый каюсь я) / От делать нечего друзья – заключение из рассказа о том, как сошлись Онегин и Ленский. Всё время это сугубо частное я меряется с действительностью героев, оказываясь «внутри». Я по разным разрозненным случаям является нам своими отдельными эмпирическими состояниями: Я помню море пред грозою, Я знал красавиц недоступных, Я русской речи не люблю, Ах, братцы! как я был доволен; среди них моментальное «фотографическое» отражение жизненных обстоятельств поэта в то самое время, когда это пишется, синхронность строки и жизни, совпадение образа я и Пушкина 1823 года, в Одессе, с его будущей жизнью, такой же открытой и неизвестной, свободной в возможностях, как неизвестна, открыта и впереди туманна даль свободного романа, только что начатого:
Придёт ли час моей свободы?
Пора, пора! – взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
Эта лирика я в романе куда эмпиричнее, необобщённее, чем собственно лирика Пушкина. Читатели из близкого личного круга склонны были, особенно поначалу, именно так эмпирически воспринимать роман в стихах как личное отражение автора, звук его голоса: «Кроме прелестных стихов, я нашёл тут тебя самого, твой разговор, твою весёлость и вспомнил наши казармы в Милионной» (Катенин Пушкину 9 мая 1825: 13, 169). Вяземский писал А. Тургеневу уже в 1828 году: «„Онегин“ хорош Пушки—ным, но, как создание, оно слабо».[37] Приятели—литераторы читают роман, словно слишком близко смотрят картину. В самом деле «Онегину» свойственна «живописность» – в том смысле, что мы будем иначе воспринимать его, «то приближаясь, то отходя», и эмпирические «мазки», «движения кисти» обратятся в «создание» на дистанции. В плане «создания» именно так огромной дистанцией обусловлена лирика я, личное отражение самого Александра Пушкина. Личное эмпирическое далеко не тождественно творческому сознанию автора, и непосредственность я весьма опосредована дистанцией.
Итак, опыт я как будто укладывается с опытом персонажей в одной действительности. Я рассказывает «историю» по личным воспоминаниям и общим впечатлениям; но, собственно говоря, лишь в первой главе это так. Уже начиная с главы второй тон рассказчика не может быть оправдан положением свидетеля, очевидца; но тон присутствующего продолжается и вне этой мотивировки: Но Ленский, не имев конечно / Охоты узы брака несть… По—прежнему и до конца «автор присутствует в романе среди своих героев»,[38] но человеческое присутствие обращается в идеальное соприсутствие автора. Рассказчик, который видит и слышит, становится автором, который знает, но автор в себе сохраняет того же рассказчика. Словом, не прекращается до конца колебание, удвоение мира, его пространства и всех его отношений. Колеблется непрестанно позиция я, и амплитуда её колебаний заключена между эмпирическим первым лицом – приятелем и рассказчиком в одном масштабе и в рост с персонажами, или частным человеческим Пушкиным – и Пушкиным—духовидцем, творцом, сознанием автора, всё объявшим, и в том числе это малое я.