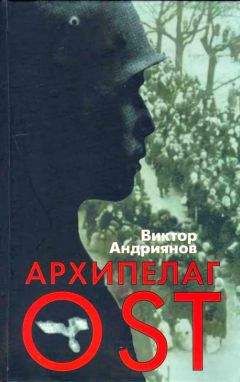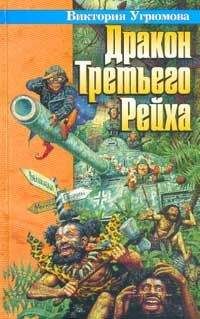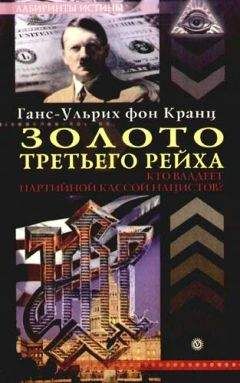Виктор Клемперер - LTI. Язык третьего рейха. Записная книжка филолога
Нужно отдать должное крикливому стилю геббельсовской пропаганды, в его пользу говорит долговременность и широта воздействия этой пропаганды. Но в то, что метафоры, заимствованные из бокса, полностью достигали своей цели, в это поверить я не могу. Безусловно, они сделали еще популярней фигуру «нашего доктора», они сделали еще популярней войну, — но совсем в ином смысле, чем тот, на который он рассчитывал: они лишили образ войны всяческой героики, придав ему грубость, а в конечном счете и безразличие, свойственное профессии ландскнехта…
В декабре 1944 г. в «Рейхе» появилась утешительная статья о текущей ситуации, написанная именитым в то время литератором Шварцем ван Берком. Рассуждения его были выдержаны в подчеркнуто бесстрастном тоне. Статья называлась «Может ли Германия проиграть эту войну по очкам? Держу пари — нет». Здесь уже нелепо говорить о душевной черствости, как в случае бездушных фраз Геббельса по поводу сталинградской катастрофы. Нет, тут умерло всякое ощущение безмерного различия между боксом и войной, война утратила все свое трагическое величие…
Опять vox populi… Участник событий всегда задается вопросом: который из множества голосов окажется решающим? В последние дни нашего бегства и вообще войны мы наткнулись у околицы одного верхнебаварского села у реки Айхах на группу людей, рывших одиночные окопы. Рядом с землекопами собрались зрители — инвалиды этой войны в гражданском, однорукие и одноногие, и седые мужчины преклонного возраста. Шел оживленный разговор; ясно было, что это люди из фольксштурма, задача которых заключалась в стрельбе фауст-патронами по наступавшим боевым машинам. В эти дни, когда все рушилось, я не раз слышал высказывания, в которых звучала абсолютная уверенность в победе, напоминавшая веру в чудо. Наталкивался я и на нескрываемую и даже радостную убежденность в том, что любое сопротивление бесполезно, а бессмысленной войне не сегодня-завтра конец. «Прыгать туда — в собственную могилу?.. Нет уж, без меня!» — «А если они тебя повесят?» — «Ну ладно, я уж полезу туда, но возьму с собой полотенце». — «Надо бы всем так сделать. И потом поднять как белые флаги». — «А еще лучше и понятней — ведь это американцы, а они все спортсмены, — бросить тряпку им навстречу, как выбрасывают полотенце на ринг…»
XXXIII
Дружина
Всякий раз, когда я слышу слово «дружина» (Gefolgschaft), передо мной встает образ «Дружинного зала» на фабрике «Thiemig & Möbius», причем в двух видах. На двери большими буквами начертано: «Дружинный зал». Первый вариант: под этими словами висит табличка с надписью «Евреи!», на соседней двери в клозет — такое же предупреждение. В этом случае в очень длинном зале стоит огромный стол в форме подковы, рядом стулья, полстены в длину заняты гардеробными крючками, около узкой стены — трибуна для оратора и рояль, и больше ничего, если не считать электрических часов, непременной принадлежности всех фабрик и учреждений. Второй вариант: обе таблички при входе в зал и в клозет убраны, а ораторский пульт обтянут полотном со свастикой, над подиумом висит большой портрет Гитлера, обрамленный знаменами со свастикой, по стенам же на высоте человеческого роста тянется гирлянда из флажков со свастикой. Когда зал так убран — эта трансформация из скупого убранства в праздничный наряд происходит, как правило, в утренние часы, — тогда наш получасовой перерыв на обед протекает веселей обычного; ведь в этот день нас отпускают домой на четверть часа раньше, поскольку сразу после общего конца рабочего дня зал должен быть очищен от евреев и снова приведен в состояние, соответствующее его культовому назначению.
Все это связано, во-первых, с распоряжением гестапо, а во-вторых — с гуманностью нашего шефа, которая доставляла ему множество неприятностей, зато нам перепадал порой кусок конской колбасы из арийской столовой; да и самому шефу эта гуманность в конце концов принесла некоторую пользу. Гестапо строжайшим образом предписывало отделять евреев от рабочих-арийцев. В процессе работы выполнить это требование было невозможно, а если и возможно, то лишь частично; тем строже оно должно было выполняться в отношении раздевалки и столовой. Господин М. вполне мог упрятать нас в какой-нибудь тесный и мрачный подвал; вместо этого он предоставлял нам светлый актовый зал.
Сколько проблем и аспектов LTI я успел обдумать в этом зале, когда становился свидетелем споров: то о вечной проблеме «сионизм или германство, несмотря ни на что», то — еще чаще и ожесточеннее — о привилегии не носить звезду, то о всякой чепухе. Но что каждый день, всякий раз с новой силой меня задевало, что в этом зале не могло быть вполне вытеснено никаким другим ходом мысли, что не могло быть заглушено никакой перебранкой, — это было слово «дружина». Вся фальшивость чувств, характерная для нацизма, весь смертный грех лживого переноса вещей, подчиненных разуму, в сферу чувства и сознательного искажения их под покровом сентиментального тумана — все это толпится в моих воспоминаниях об этом зале, подобно тому, как в нем по торжественным случаям после нашего ухода толпилась арийская дружина фирмы.
Дружина! Но кто же в действительности были эти люди, которые там собирались? Рабочие и служащие, за определенное вознаграждение выполнявшие определенные обязанности. Все отношения между ними и их работодателями были отрегулированы; возможным, но в высшей степени бесполезным и, может быть, даже вредным было то, что между шефом и кое-кем из них возникали иногда какие-то сердечные отношения. — Нормой же для всех был в любом случае безличный холодный закон. И теперь в дружинном зале они выводились за пределы этой ясной регулирующей нормы и благодаря одному-единственному слову «дружина» представали в новом, преображенном обличье. Это слово переносило их в сферу старонемецкой традиции, превращало их в вассалов, оруженосцев, дружинников, давших клятву верности благородным господам-рыцарям.
Был ли этот маскарад безобидной игрой?
Вовсе нет. Он превращал мирные отношения в воинские; он парализовал критику; он непосредственно раскрывал суть лозунга, красовавшегося на всех транспарантах: «Фюрер, приказывай, мы следуем [за тобой]!»[223]
Стоит только обратиться к старонемецкому языку, который благодаря своей древности и неупотребительности в обыденной речи звучит поэтично, а иногда — стоит просто вычеркнуть один слог, и у человека, к которому обращаются, возникает совершенно иное душевное состояние, его мысли переводятся в другую колею или отключаются, а им на смену приходит искусственно навязанный верующий настрой. «Союз правоохранителей» — это нечто несравнимо более благостное, чем «Объединение прокуроров», «управляющий делами» звучит куда торжественнее, чем «чиновник» или «администратор», а когда на дверях какой-нибудь конторы я вижу табличку с надписью «Управа» вместо «Управление», на меня это производит впечатление чего-то священного. В одной такой конторе мне оказали непредусмотренную услугу, нет, надо говорить «меня взяли под опеку», а тому, кто меня опекает, я должен в любом случае быть благодарным и уж никак не обижать какими-либо нескромными претензиями или даже недоверием.
Но не слишком ли далеко я захожу в своих обвинениях в адрес LTI? Ведь слово «опекать» (betreuen) всегда было употребительно, и в Гражданском уложении есть термин «опекунский совет». Все это так, но Третий рейх применял это слово не зная меры, где надо и где не надо (в Первую мировую войну студенты в армии снабжались учебными пособиями и получали образование на [заочных] курсах, во Вторую — их «опекали» заочно), и ввел это в систему.
Сердцевиной и целью этой системы было правовое чувство (Rechtsempfinden), о правовом мышлении речи не было, как, впрочем, и о просто правовом чувстве, — нет, говорилось всегда только о «здоровом правовом чувстве». А здоровым было то, что отвечало воле и нуждам партии. С помощью этого здорового правового чувства была оправдана грабительская конфискация еврейской собственности после дела Грюншпана[224]; кстати, при этом употреблялось слово «пеня» (Buβe), которое также имело легкий старонемецкий оттенок.
Для оправдания хорошо организованных поджогов, жертвами которых стали синагоги, необходимо было подыскать слова посильнее, забирающие поглубже, тут одним «чувством» обойтись было нельзя. Так возникла фраза о «кипящей от гнева народной душе». Понятно, что это выражение не создавалось в расчете на длительное использование; зато слова «спонтанный» и «инстинкт», которые в те годы только-только входили в моду, надолго закрепились в словарном составе LTI, причем доминирующую роль, вплоть до конца, играло слово «инстинкт». Если воздействовать на инстинкт настоящего германца, он реагирует спонтанно. По следам события 20 июля 1944 г. Геббельс писал, что покушение на фюрера можно объяснить только тем, что «силы инстинкта были парализованы силами дьявольского интеллекта».