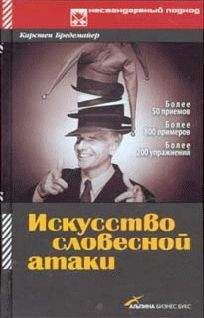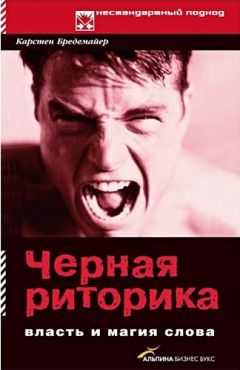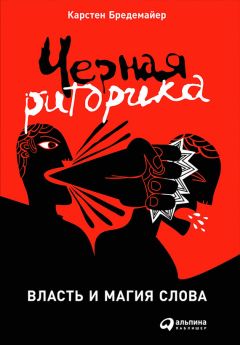Григорий Амелин - Письма о русской поэзии
Читая, надо слышать, что написано, погружаясь в «бесконечность немого голоса» (Бальмонт). Мы вообще можем услышать этот голос только в полном молчании. Голос за пределами нотной грамоты. Это некое свойство текста, не равное его содержанию. Речь до слов, la parole d'avant les mots. Читая, мы принадлежим этому голосу (а не наоборот), ритм которого является душой вещей и зримым телесным обликом мысли. В пределе – это идеальный голос, «голос, проходящий сквозь века» (Гумилев). Он не сводим и не выводим из предметного содержания речи и как некий акт не является ни одним из элементов в цепи последовательных актов, а пронизывает их все, накладывая отпечаток: «в поэзии, – говорил Вяч. Иванов, – форма – всё; и всё, самое задушевное и несказанное, претворяется без остатка в эпифанию формы, которая озаряет и обогащает душу полнее и жизненнее, чем какое бы то ни было «содержание»» (III, 664). Неповторимый рисунок речи следует канонам своей собственной индивидуальности, а не правилам метрики и грамматическим законам. Важнейшая ницшевская аксиома гласит: «Наиболее вразумительным в языке является не само слово, а тон, сила, модуляция, темп, с которыми проговаривается ряд слов, – короче, музыка за словами, страсть за этой музыкой, личность за этой страстью: стало быть, все то, что не может быть написано» (I, 30).
Голос, который по мысли Пруста, дан dans l’immensité sonore («в звучащей бесконечности»), выступает как чистая форма актуальности целого – in actu. Наше понимание стиля прямо противоположно тому, что предложил Барт в своей «Нулевой степени письма», – это, так сказать, взгляд не снизу, а сверху. In actu означает, что эта форма существует заново и целиком в каждой точке текстового развертывания. Розанов говорил: «Стиль есть то, куда поцеловал Бог вещь» (II, 624). Божественный поцелуй – точка соприкосновения уст и вещи на деле охватывает и держит вещь целиком в качестве высшего единства. Поцелуй – не прибавление чего-то к вещи, а пребывание этой вещью. В ней теперь образ и подобие Божие. Поцелуем он не просто касается земной вещи, но вдыхает жизнь, которой потом вещь целует мир. Поцелуй – замолчавший, сжавшийся, сгруппировавшийся до бесконечной точки голос.
Голос, подобно Творцу в известной формуле: «Deus est sphaera cujus centrum ubique, circumferentia nusquam» [Бог есть сфера, центр которой везде, а периферия нигде]. Из «Путеводителя души к Богу» Св. Бонавентуры: «Поскольку Бог вечен и в наивысшей степени настоящ (presentissimum), он обнимает все виды длительности и существует как бы одновременно, во все моменты, как их центр и периферия. И поскольку он есть простейшее и максимальное (simplicissimum et maximum), он весь целиком внутри всего и весь целиком вне всего, поэтому он есть умопостигаемая сфера, центр которой везде, а окружность нигде».[242] Лирический голос – всегда круг, который хорош во всех отношениях: он неделим, он – центр, начало и конец себя самого, он – образующее средоточие самой лучшей из всех фигур.
Голос делается идеальным означающим для идеи настоящего – момента между прошлым и будущим. Более того, через акт речи настоящий момент и переживается как момент присутствия, как момент бытия. «Теперь» – вечный день рождения времени. Голос выражает бытийную имманентность истины как вечного настоящего: «Есть сила благодатная в созвучьи слов живых». Лирическая формула Маяковского «Во весь голос» выражает эту благодатную силу и идею живого созвучия – голоса не может быть немного, только весь и сразу. Благодаря ему поэт подвешивает и освежёвывает любые предметные представления, мысля о мысли и ни о чем другом. Это некая беспредметная и бессубъектная мысль, эпифания формы. И она – основание трансцендентального среза мира, с позиций которого говоримое есть возможность того мира, о котором говорится. Поэт делит на прозрачные голоса неделимый и непрозрачный гул бытия.
Мы попадаем в область каких-то радикальных феноменологических экспериментов, когда предданная структурированность мира редуцируется, снимается, заново и особо устанавливаясь в поэтическом языке. «Я, – писал Белый, – понял: работой над мыслью снимаем мы кожу понятий, привычек, обычаев, смыслов, затверженных слов…».[243] Классический эксперимент с именем – лермонтовский «Штосс»:
«Хорошо… я с вами буду играть – я принимаю вызов – я не боюсь – только с условием: я должен знать, с кем играю! как ваша фамилия?
Старичок улыбнулся.
– Я иначе не играю, – промолвил Лугин, – меж тем дрожащая рука его вытаскивала из колоды очередную карту.
– Что-с? – проговорил неизвестный, насмешливо улыбаясь.
– Штос? – кто? – У Лугина руки опустились…».[244]
У главного героя лермонтовской прозы ощущение, что он сходит с ума. Кто-то с утра до вечера торопливо и навязчиво твердит ему адрес: Столярный переулок, у Кокушкина моста, дом титулярного советника Штосса, квартира номер 27. Не в силах отвязаться от несносного голоса, мсье Лугин отправляется по указанному адресу, чтобы разом разрешить все сомнения. Однако даже всезнающий дворник не может сказать ему, кто такой Штосс, и его ли это дом. Лугин предчувствует недоброе, но любопытство, над которым таинственность предмета берет необычайную власть, ведет его в нужную квартиру. Он снимает пустующий 27 номер. На стене последней комнаты – поясной портрет человека лет сорока в бухарском халате, с правильными чертами, большими серыми глазами и золотой табакеркой в руке. Ночью является старичок, с которым Лугин принимается играть в карты. Мы так и не узнаем из недописанного текста и незаконченной игры, которую Лугин дьявольски проигрывает, будучи не в силах остановиться, – кто был этот ночной гость и чем закончилось дело. Явился хозяин дома – титулярный советник Штосс? Ожил портрет? Или, может быть, это наиреальнейший романтический призрак? Или плод воображения безумного героя?
Карточная игра носит имя человека, которого нет, и звучит как вопрошание: «Что?» Вернее, «Штос» надо понимать как вопрос и ответ одновременно – старичок переспрашивает Лугина, а ему слышится ответ и необходимое представление таинственного гостя. Имя стирается каламбуром, превращаясь в место имения какого-то вечного вопроса.[245] Растворение имени в вопросе означает, что оно ушло с молотка и безвозвратно потеряно, но такое торжество вопроса может приводить и к выводам прямо противоположного свойства: чтобы понять, что значит это, твое, единственное имя, надо услышать его, имени, вопрос; понять имя как вопрос. Он же – название игры. Имя есть игра в ответ на вопрос: «Что есть имя?» Не зря Анненский говорил не о демонизме каком-нибудь, а именно о юморе Лермонтова. «Почему же, – вопрошал Голосовкер, – озаглавлен роман, если верить Е. П. Ростопчиной, «Штосс»? Это тоже тонкость – тонкость иронии автора. На недоуменный вопрос читателя: «Что же это?» – автор, в аспекте светского общества неисправимый шутник и трагический мистификатор, отвечает: «Что-с?» Но читателю слышится: «Штосс». Никакого Штосса в повести нет. Он здесь не живет. А где же? А черт его знает!».[246] Но дело вовсе не в текстовой прагматике и бесконечной мистификации, а в том, что сам Голосовкер назвал «трагическим поединком поэта с самим собой». Мятежная мысль в вечном поиске, а не обретении, вопросе, а не ответе.[247]
Каламбур – не невинное упражнение в острословии, а лаборатория мысли.[248] Он – учение, в котором всегда тяжело. Каламбур есть кесарево сечение языковой плоти, не способной плодоносить естественным образом. Саму рифму можно понимать как кодифицированную разновидность каламбура.
Облекая в одно слово два разных понятия, игра слов ни сном, ни духом не знает о понятии (не царское это дело). Логика остается на скамейке запасных. Случай, Бог-изобретатель, полагает меру свободному творению, не ведающему о законе (закон вообще возникает лишь на втором шаге). Случайность наименования и столкновение в неусловленном месте самых далеких вещей рождает смыслы, не выводимые ни из понятий, ни из психологических причин, ни из риторических предписаний. Определившись так, а не иначе, случившись (случая разные слова), игра слов становится правилом, законопорождающей матрицей для всего последующего движения. Сам по себе «штос» как название карточной игры – мертвое понятие и чужое слово из чужого словаря. Увязывая его с глухим до угодливости вопросом («Что-с?») и не лишенным петербургской мистики именем героя, Лермонтов сокрушает цитатель всех готовых расчетов и мысленных регламентов. Теперь любая мысль оглядывается на свой темный исток, любое суждение может треснуть под тяжестью навалившейся многозначности, любое «что» требует личности дознающегося (того, кто это «что» вопрошает). И каждое «что» в инвентаре и предметном составе мира, как в кривом зеркале, отражается и передразнивает: «что?» В каламбуре, дающем яркую вспышку и замыкание языка на самом себе, – пространство-резонатор, запускающий механизм бесконечного смыслопорождения и бесконечного усиления эффекта.