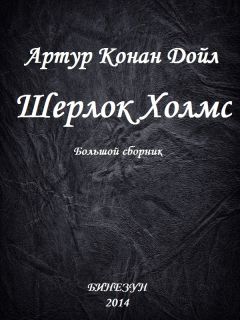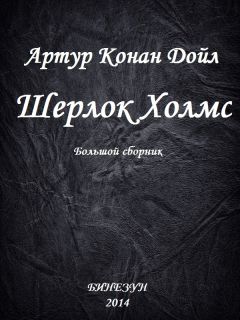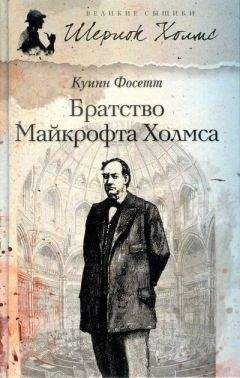Леонид Карасев - Гоголь в тексте
От сладкой еды – к поэзии. Мед – эмблема, апогей сладости вкушаемой и обоняемой – напоминает о традиционной метафоре «поэтического меда» или «меда поэзии». В этом смысле выбор фигуры «пасичника» в качестве рассказчика оказывается вполне органичным. Оттого, возможно, Фома Григорьевич желает своему деду, умевшему «чудно рассказывать», чтобы ему елись «буханцы пшеничные и маковники в меду», а описание Контопской ярмарки начинается с запаха «горячих сластен» (да и дважды упоминавшийся в связи с темой рассказа, говорения «кисель» также относится к разряду сладкого).
Беседа как удовольствие и сладость. Как говорит пасечник в предисловии к «Вечерам»: «Я всегда люблю приличные разговоры; чтобы, как говорят, вместе и услаждение и назидательность была» – словосочетание, отсылающее нас к книге Рабле, да и вообще к эпохе, где принцип «Поучая, развлекай; развлекая, поучай» был одним из наиболее популярных. У Рабле зачастую одно от другого неотличимо, например, как в уже приводившемся случае с собакой, названной «философским животным». Собака разгрызает кость, чтобы добыть капельку мозга, поскольку эта капелька «вкуснее (dйlicieux) многих других». Н. Любимов в своем переводе употребил слово «слаще» и, если следовать природе вещей, был прав. Сок, высасываемый из костей, действительно имеет сладковатый вкус.
У Гоголя, если взвесить на весах «услаждение» и «назидательность», в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» на первом месте окажется «услаждение», в «Мертвых душах» – все больший вес начинает приобретать «назидательность». Особенно эта линия развита Гоголем во втором томе поэмы. Однако и здесь «назидательность» по своему «вкусу» может быть не менее сладкой, чем «услаждение» (то есть приятность, развлечение). Например, в сцене, где Чичиков беседует с Костанжогло, видно, что сам процесс наставления, «назидательности» доставляет ему удовольствие.
«Жду, как манны, сладких слов ваших», – говорит Чичиков, надеясь услышать от Костанжогло наставления о «наслаждении» честного труда. И далее прослушав «сладкозвучные» хозяйские речи о правильном ведении хозяйства, Чичиков заключает: «Сладки мне ваши речи». И все это – под сладкую малиновую настойку, которую эти два «поэта» предпринимательства пили в продолжение всего вечера.
Сочинительство как кормление сладостью в гоголевском случае имеет еще одну особенность. Она связана с библейским образом съедаемой книги Истины, о которой сказано в «Откровении» св. Иоанна Богослова: «И взял я книжку из руки Ангела и съел ее; и она в устах моих была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве моем» (Отк. 10, 10). «Съесть» в данном случае означает услышать или прочитать или, если иметь в виду логику ассоциативного переноса, сочинить и рассказать, поскольку первое неосуществимо без второго. Своим «сладким» словом Гоголь намеревался наполнить души читателей «горечью» истины, которая подвигла бы их на путь исправления и очищения от греха.
И еще. Осознание писательского дела как кормления читателя «пищей духовной» соприкасается с тем, что обычно относят к «окормливающему» слову священника. Точное значение слова «окормливать» связано с «кормчим», который направляет корабль по верному пути. Однако в силу звукового сходства с «кормлением», то есть с питанием, оно взяло на себя и это значение, не потеряв при этом исходной идеи движения по верному пути. Слушать священника – значит питаться правильной духовной пищей. Этот смысл Гоголь в силу каких-то глубинных психологических причин переносил на свои собственные сочинения, что особенно сказалось в «Мертвых душах». Они – по мысли и мечте автора – должны были в конечном счете изменить и его жизнь, и жизнь всей России (как заметил по этому поводу А. Белый, для Гоголя закончить «Мертвые души» означало «быть, или не быть»).
В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголь такого рода задачу перед собой еще не ставил, однако настойчивое соединение тем еды и сочинительства, рассказывания, в котором претензия на «кормление»-«окормление» уже присутствует, указывает на то, что истоки подобного отношения Гоголя к собственному слову берут начало уже в первой его книжке.
О двойном использовании сюжета у Гоголя
Попробуем описать гоголевский сюжет таким образом, чтобы на первое место вышла композиционная схема, то есть последовательность и общий характер событий. Тогда можно будет понять, как сюжет устроен и как часто Гоголь им пользуется.
Два пожилых персонажа называют друг друга по имени и отчеству, живут в мире и согласии много лет, оказывая друг другу различные знаки внимания. Так продолжается до тех пор, пока случается происшествие, причиной которому оказывается упоминание о некоем животном. Нежелание одного из персонажей слышать о нем положения не исправляет. Прежняя мирная жизнь рушится окончательно; катастрофа полная. В финале автор, спустя многие годы, вновь посещает те же самые места, где происходила описанная история, и с грустью вспоминает о былом.
При подобном типе описания гоголевской истории на роль оригинала более всего просится «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Оба персонажа действительно жили бок о бок, называли друг друга по имени и отчеству («Иван Иванович» и «Иван Никифорович»), прекрасно друг к другу относились, то есть жили душа в душу до тех пор, пока не появилось упоминание о животном, сломавшее их отношения. Сказанное Иваном Никифоровичем слово «гусак» испортило все самым решительным образом, и, хотя Иван Иванович был возмущен этим словом, оно упоминалось несколько раз, что и привело жизнь соседей к полной катастрофе.
В финале появляется автор и с грустью вспоминает о прежних добрых временах.
Однако кто-то может сказать, что при вышеизложенном раскладе ему на ум приходит не история поссорившихся соседей, а повесть «Старосветские помещики», и будет прав, поскольку там в принципе задействована та же сюжетная схема. Два пожилых персонажа многие годы жили душа в душу, называли друг друга по имени и отчеству: «Афанасий Иванович» и «Пульхерия Ивановна». Жили до тех пор, пока в их мирной жизни не появилось животное, сломавшее ее решительно и навсегда. В «Старосветских помещиках» это кошка. Афанасий Иванович просит не говорить об этом животном, не упоминать его имени, однако Пульхерия Ивановна про кошечку не однажды вспоминает, и в итоге все приходит окончательное расстройство.
В финале также появляется автор и с грустью вспоминает о прежних добрых временах.
Сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ». Некий господин – не богатый, но желающий стать таковым – приезжает в губернский город, в котором его принимают за кого-то другого. В одном случае – за ревизора, в другом (не без помощи самого господина) за херсонского помещика, покупающего души на вывод. Деньги (в одном случае в виде взяток, в другом – в виде «мертвых душ») текут к обоим персонажам рекой. Появляется и тема возможного брака, но в обоих случаях дело ничем не заканчивается. В итоге, опасаясь последствий, и тот и другой бегут из города. Сходство обоих гоголевских сочинений было подмечено уже давно. Например, в «Мастерстве Гоголя» у А. Белого читаем: «Знаю: сюжет «Ревизора» и сюжет «Мертвых душ» имеют много общего…»[120].
Сходство повестей «Вий» и «Майская ночь, или утопленница» – также на виду. Я не стал бы об этом говорить, если бы речь шла только о совпадениях в деталях. Однако в нашем случае важно то, что оба сочинения находят свое место в рамках упомянутого двойного использования сюжетной схемы. И хотя речь идет не обо всем сюжете, а о некоторых его частях, эти части в общей организации сюжета по-настоящему важны и значимы.
Эпизоду из «Вия», где Хома встречается с ведьмой, в «Майской ночи» соответствует место, где ведьма, превратившись в кошку, ночью подкрадывается к панночке. «В испуге вскочила она на лавку, кошка за нею. Перепрыгнула на лежанку: кошка и туда и вдруг бросилась к ней на шею и душит ее. С криком оторвавши от себя, кинула на пол; опять крадется страшная кошка».
В «Вие» – та же диспозиция. Ночь. Хома один в хлеву. Вдруг появляется старуха и идет к нему «с распростертыми руками». Философ отодвинулся в сторону, но старуха снова идет к нему: она «раздвигала руки и ловила его, не говоря ни слова»; и затем еще раз: «старуха не говорила ни слова и хватала его руками». В обоих случаях, как видим, события происходят в одной и той же обстановке и по одной и той же схеме: в полной тишине, не издавая ни звука, ведьма вновь и вновь пытается схватить свою жертву.
Есть общее и в других деталях. В «Майской ночи» сказано, что ведьма так «страшно взглянула[121] на свою падчерицу, что та вскрикнула». В «Вие» Хома, глядя на ведьму, не вскрикивает, однако ж ему «сделалось страшно, особливо, когда он заметил, что глаза ее сверкнули каким-то необыкновенным блеском». В «Майской ночи» ведьмин блеск передан кошке («шерсть на ней горит»). Это можно назвать своего рода «свободным» распределением признаков: главное, чтобы в соответствующей ситуации признак был указан, а к чему именно он прикрепится, не столь важно. В «Майской ночи» панночка, убегая от ведьмы, «перепрыгнула на лежанку», в «Вие» Хома, спасаясь от ведьмы, «отодвинулся немного подальше», то есть отодвинулся от того места, где лежал.