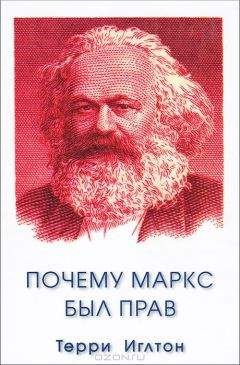Терри Иглтон - Теория литературы. Введение
Если бы такое постоянное скольжение и сокрытие смысла действовало в сознательной жизни, мы бы, конечно, просто не смогли связно разговаривать. Если бы весь язык был открыт мне, когда я говорю, я не смог бы ничего отчётливо произнести. Таким образом, Эго, или сознание, может работать, лишь подавляя эту бурную деятельность, предварительно прибивая слова к значениям. Даже если я не хочу, чтобы слово из сферы бессознательного проникло в мою речь, оно всё же проявляет себя в знаменитых фрейдистских оговорках и ошибочных действиях. Но для Лакана весь дискурс – такого рода оговорка: если процессы языка столь обманчивы и неопределённы, как он это предполагает, мы никогда не сможем точно иметь в виду то, о чём говорим, и точно сказать то, что имеем в виду. Значение всегда в некотором смысле приблизительно, не до конца верно, неполноценно; оно делает из бессмыслицы и нечто осмысленное, а недопонимание превращает в диалог. Мы никогда не сможем сказать правду «чистым», неопосредованным способом: собственный знаменитый прорицательский стиль Лакана, язык бессознательного «как оно есть», был задуман для того, чтобы показать, что попытка передать цельное, чистое значение речи или текста является дофрейдистской иллюзией. В нашей осознанной жизни мы ощущаем себя разумными, цельными, согласованными личностями, и без этого деятельность стала бы невозможной. Но это всего лишь «воображаемый» уровень Эго, лишь верхушка айсберга человеческой личности, какой она известна психоанализу. Эго является функцией или эффектом субъекта, который всегда рассеян, никогда не равен самому себе, растянутый вдоль цепочек конституирующих его дискусров. Существует радикальный разрыв между двумя уровнями существования – наиболее показательно он проявляется в акте упоминания себя в предложении. Когда я говорю: «Завтра я скошу газон», я указываю «Я» как воспринимаемую без помех стабильную точку референции, которая на самом деле даёт неверное представление о тёмных глубинах «Я» говорящего. Первая форма «Я» известна в лингвистической теории как «субъект речи», это предмет, о котором идёт речь. Последнее «Я», то, что говорит, есть «субъект высказывания», субъект самого акта. В процессе говорения и письма эти два «Я» обретают частичное единство, но это единство воображаемого порядка. «Субъект высказывания», говорящий или пишущий человек, никогда не может полно передать самого себя или саму себя в собственном высказывании: не существует знака, который бы объединил всё человеческое существо. Я могу только указать на себя в языке через подходящее местоимение. Местоимение «Я» подменяет постоянно ускользающий субъект, который всегда будет проскакивать сквозь сети любой разновидности языка; это равноценно утверждению, что я не могу «значить» и «быть» одновременно. Делая этот вывод, Лакан смело переписывает декартовское «Я мыслю, следовательно, существую»: «Я мыслю там, где я не есмь, следовательно, я есмь там, где я не мыслю»[138].
Есть интересная аналогия между тем, что мы только что обсудили, и «актами речи», известными как литература. В некоторых литературных произведениях, особенно реалистических, читательское внимание обращено не на «акт высказывания», то есть не на то, как это сказано, с какой позиции и с какой целью, а на то, что сказано, на высказывание само по себе. Такого рода «анонимные» высказывания имеют больший вес, более охотно получают одобрение, чем те, которые обращают внимание на способ построения высказывания. Язык юридического документа или научной монографии может оказать на нас большее (а то и устрашающее) впечатление именно, потому что там язык и его работа – не первое, что бросается в глаза. Текст не позволяет читателю увидеть, как отбирались факты, из которых он состоит, что было исключено, почему факты были организованы именно таким образом, какие посылки управляли этим процессом, какие формы работы привели к возникновению текста и каким ещё способом это можно было сделать. Часть силы таких текстов связана с подавлением того, что можно назвать их способами производства, того, благодаря чему они стали сами собой. С этой точки зрения они имеют любопытное сходство с жизнью человеческого Эго, благополучие которого основано на подавлении процесса своего создания. Наоборот, многие модернистские произведения делают «акт высказывания», процесс собственного создания, частью своего актуального содержания. Они не пытаются остаться без вопросов, как «естественный» знак Барта, но, как сказали бы формалисты, «обнажают приём». Это делается, чтобы тексты не оказались приняты за абсолютную истину: поощряются критический взгляд воспринимающего на пристрастный, частный способ конструирования реальности и понимание того, как она могла бы быть организована иначе. Возможно, лучший пример такой литературы – драма Бертольта Брехта, но существует много других действительно полезных образцов модернистского искусства, в том числе кинематографа. Представьте себе, с одной стороны, типичный голливудский фильм, использующий камеру просто как разновидность «окна» или ещё одной пары глаз, через которые зритель созерцает реальность. В этом кино камера устойчиво закреплена, ей позволено просто «фиксировать» то, что происходит. Смотря такой фильм, мы склонны забывать, что «то, что происходит» – не просто «происходящее», но сложный конструкт, включающий действия и мысли многих людей. С другой стороны, представьте себе кино, в котором камера непрерывно действует, бросается от объекта к объекту, фокусируется на чём-то, затем оставляет ради другого, одновременно исследуя эти объекты с различных точек зрения перед тем, как закрыть тему и взяться за что-то ещё. Такой приём не является чисто авангардистским, но даже он подчёркивает, по контрасту с первым типом фильмов, выдвижение на первый план активности камеры, способа монтажа эпизодов, что не даёт нам, зрителям, просто уставиться в экран, наблюдая за назойливыми действиями объектов самих по себе[139]. «Содержание» серии кадров может быть понято как продукт или специфический набор технических приёмов, а не как «естественная», данная реальность, которую камера просто отражает. «Означаемое» – «смысл» фильма – является продуктом «означающего» – кинематографических техник, – а не того, что им предшествует.
Чтобы проследить дальнейшие мысли Лакана о человеческих субъектах, мы должны кратко рассмотреть знаменитое эссе марксистского философа Луи Альтюссера, написанное под влиянием Лакана. В работе «Идеология и идеологические аппараты государства», входящей в его книгу «Ленин и философия» (1971), Альтюссер пытается, при имплицитной поддержке теории психоанализа Лакана, осветить работу идеологии в обществе. Как получается, спрашивает он, что человеческим субъектам очень часто приходится подчиняться доминирующим идеологиям их обществ – идеологиям, которые Альтюссер понимает в качестве жизненно важных для поддержания силы правящего класса? Через какой механизм это происходит? Альтюссера иногда воспринимают как «структуралистского» марксиста, поскольку для него людская индивидуальность есть продукт многих социальных детерминант, не имеющая потому сущностной цельности. В рамках науки о человеческом обществе личности можно изучать просто как функции, эффекты той или иной социальной структуры – по их месту в системе производства, по принадлежности к определённому социальному классу и так далее. Но, конечно, это не совсем тот способ, которым мы сами себя осознаём. Мы, скорее, склонны видеть себя свободными, цельными, автономными, личностями, самородками – и если бы мы так не поступали, не были бы способны играть свои роли в общественной жизни. Для Альтюссера идеология – это то, что позволяет нам ощущать себя подобным образом. Как это следует понимать?
Когда дело касается общества, я, как человеческая личность, являюсь совершенно несущественным. Нет сомнений, что кто-то должен выполнять те функции, которые я взял на себя (статьи, преподавание, чтение лекций и т. д.), поскольку образование играет ключевую роль в процессе воспроизводства данного типа социальной системы, – но нет конкретного основания для того, чтобы этой личностью должен быть именно я. Причина, не дающая мне уйти с бродячим цирком или умереть от передозировки после осознания сказанного, такова: я не так обычно ощущаю свою идентичность, я иначе «живу своей жизнью». Я не чувствую себя просто функцией социальной структуры, которая может продолжать существовать и без меня, хотя это и проявляется, когда я анализирую ситуацию, – я чувствую себя как личность со значимыми отношениями с обществом и с миром в целом, отношениями, которые дают мне достаточно смысла и ценностей, чтобы действовать целенаправленно. Как если бы общество являлось для меня не просто безликой структурой, но «субъектом», который «обращается» ко мне лично, – он узнает меня, говорит мне, как я ценен, и за счёт самого факта узнавания делает меня свободным, автономным субъектом. Нельзя сказать, что я чувствую, будто мир существует для меня одного, но мне кажется, будто он значимо «центрирован» на мне, а я, в свою очередь, значимо «центрирован» на нем. Идеология, по Альтюссеру, является набором убеждений и практик, через которые происходит такого рода центрирование. Они гораздо менее различимы, гораздо более проникающи и бессознательны, чем набор эксплицитных доктрин, – это среда, в которой я «проживаю» моё отношение к обществу, царство знаков и социальных практик, привязывающее меня к социальной структуре и позволяющее обрести идентичность и чувствовать целеустремленность. Идеология, при таком рассмотрении, может включать в себя посещение церкви, участие в выборах, придерживание двери перед женщинами, она может присутствовать не только в таких сознательных пристрастиях, как моя глубокая приверженность монархии, но и в стиле моей одежды, марке моей машины, моих глубоко бессознательных представлениях о других и о самом себе.