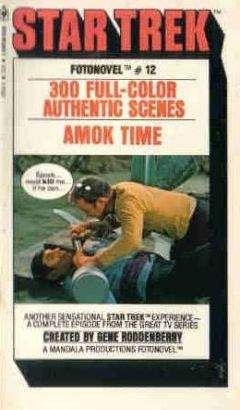Арам Асоян - Данте в русской культуре
Платон был одним из учителей, за которыми в поисках подступа к большому искусству шел Иванов. Античным мудрецом был подсказан лишь путь, а доказательством плодотворности и истинности этого пути служило творчество Данте. Рассказывая о путешествии за пределы чувственно-предметного мира и проникновенном созерцании идеальных сущностей, он в духе платоновского учения утверждал правдоподобие своих странствий:
Я в тверди был, где свет их восприят
Всего полней; но вел бы речь напрасно
О виденном вернувшийся назад;
Затем, что, близясь к чаемому страстно,
Наш ум к такой нисходит глубине,
Что память вслед идти за ним не властна.
Однако то, что о святой стране
Я мог скопить, в душе оберегая,
Предметом песни воспослужит мне.
В этом прологе к третьей части поэмы чрезвычайно важным могло стать для Иванова показание Данте, что «Божественная комедия» – свидетельство поэта о своем внутреннем опыте. С точки зрения символиста, это и придавало дантовскому рассказу несомненную ценность и особую значимость, ибо созерцания художника, родственные, как заявлял Иванов, созерцаниям браминов, «не просто аполлонийская сонная греза, но вещее аполлннийское сновидение»[541]. Недаром Данте, называвший свою «Комедию» священной поэмой (Рай, XXV, 1), полагал, что его творение – изволение самого апостола Петра (Рай, XXVII, 66). «Превзойдя возвышением разума человеческие возможности», что казалось ему вероятным «по причине единой природы и общности человеческого ума с умственной субстанцией»[542], он расслышал неизреченные слова[543] и вернулся к людям, чтобы высказать «похожую на ложь истину» (Ад, XVI, 124)[544].
В полном согласии со средневековым поэтом в понимании сокровенного содержания внутреннего опыта, где человек «находит свое предвечное воление и делается страдательным орудием живущего в нем бога»[545], Вяч. Иванов с пафосом цитировал завещание Рихарда Вагнера:
Единый памятуй завет:
Сновидцем быть рожден поэт.
В миг грезы сонной, в зрящий миг,
Дух истину свою постиг;
И все искусство стройных слов –
Истолкованье вещих снов.
Так, по его мнению, рождается миф – «образное раскрытие имманентной истины духовного самоутверждения народного и вселенского»[547]. Так, подобно последнему представителю истинно мифотворческого искусства, как именовал Вяч. Иванов Данте[548], художник выявляет сверхприродную реальность, или «первородную» основу мира, и тщится «ознаменовать» ее символом. Он «изобретает новое и обретает древнее»[549], ибо дело художника не в сообщении новых откровений, но в откровении новых форм[550].
В творческом процессе Иванов различал восхождение и нисхождение. «Удаление творческого духа, – писал он, – в область, трансцендентную действительности, освобождая его от волевых с нею связей, есть для художника первый шаг к пробуждению в нем интуитивных сил, а для человека в нем – уже род духовного восхождения…»[551] Нисхождение Иванов трактовал как принцип художественного воплощения. Прямые подтверждения своей концепции, «подлинные и искренние», Иванов находил в «Новой жизни» Данте, а именно в ее третьей главе, где поэт рассказывает о видении и приводит связанный с ним сонет, возвещающий грядущий апофеоз Беатриче. «Вглядимся ближе в процесс возникновения из эротического восторга мистической эпифании, – комментировал Иванов рассказ и сонет Данте, – из этой эпифании – духовного зачатия, сопровождающегося ясным затишьем обогащенной, осчастливленной души, из этого затишья – нового музыкального волнения, влекущего дух к рождению новой формы воплощенья, из этого музыкального волненья – поэтической мечты, в которой воспоминания только материал созерцания аполлонийского образа, долженствующего отразиться в слове стройным телом ритмического создания, – пока, наконец, из желания, зажженного созерцанием этого аполлонийского образа, не возникнет словесная плоть сонета»[552].
В общем, подытоживал свои наблюдения Иванов, восхождение есть накопление сил, нисхождение – их излучение, а потому деятельность художника есть некое дерзновение и вместе с тем некая жертва, ибо он, поскольку является художником, должен нисходить, тогда как общий закон духовной жизни есть восхождение к высочайшему бытию[553]. Отсюда, по его мнению, противоречия между художником и человеком и переживание этого противоречия как душевного разлада, как отступничества от вверенной символистам святыни. «Были пророками – захотели стать поэтами», – цитировал Иванов упрек Блока. Но без нисхождения, рассуждал он, нет символического искусства, призванного быть носителем откровений. Символическим, т. е. истинно содержательным и действенным, искусство будет в той мере, утверждал Иванов, в какой будет осуществляться внутренний канон, который определялся им как закон укрепления и осознания связей между личным бытием и бытием соборным, всемирным, божественным[554]. Только при соблюдении внутреннего канона искусство и может стать символом высших ценностей. И то познание, уверял Иванов, какое мы сможем почерпнуть из творений истинно нисходящего искусства, будет познание об истинной воле Земли, о несказанных иначе, как на языке муз, томлениях и предчувствиях Мировой души. Последнее замечание поэта было сродни дантовскому пониманию искусства, где оно представляется единственным средством приближения к потустороннему, теоретически неосуществимому идеалу. Для передачи трудноизъяснимого, внутреннего слова, как сказал бы Иванов, Данте вынужден обращаться к Аполлону, отцу и хороводцу муз:
О вышний дух, когда б ты мне помог
Так, чтобы тень державы осиянной
Явить в мозгу я впечатленной мог.
По терминологии Вяч. Иванова, «тень державы осиянной» – не что иное, как аполлонийское сновидение, а точнее, зеркальное отражение интуитивного момента в памяти[556]. Эта параллель обозначена нами не случайно. Дело в том, что раздумья над природой символического искусства и его границами привели Иванова к созданию модели творческого процесса, в осмыслении которого центральная роль отводилась «Божественной комедии». Согласно этой модели для изображения чувственно воспринимаемого мира художнику необходимо удаление из нее в сферу сознания, вне действительности лежащую. Эта сфера может переживаться духом художника как некая пустота. Но, призывал Иванов,
Дерзни восстать земли престолом,
Крылатый напряги порыв,
Верь духу и с зеленым долом
Свой белый торжествуй разрыв![557]
Чем независимее и отрешеннее от испытываемой действительности переживается эта пустота, тем энергичнее представлен в творческом процессе полюс сознания, внеположного всему эмпирическому, и тем ярче вспыхивает художественное постижение действительности, ибо «каждое постижение, будучи родом философского Эроса, есть совмещение имманентного пребывания в познаваемом и его трансцендентного созерцания»[558].
По мысли Иванова, творческий дух, удаляясь в область, трансцендентную действительности, освобождается от волевых с нею связей. Однако сферы, доступные восхождению, не всегда оказываются для творческого духа нагой пустыней. Чтобы подняться в пустыню, он должен пройти через полосу миражей, прельстительных, но пустых зеркальностей, отражающих покинутую им действительность, преломленную в зыбком покрывале его собственных страстей и вожделений[559]. Нисхождение из этой непосредственно прилегающей к низшему плану сферы делает произведения художника мечтательными, своенравно-фантастическими; в них нет ни интуитивного познания вещей, ни непосредственного, стихийного осознания действительности, из которой автор уже вышел. В таких произведениях отражается лишь он сам в своей душевной ограниченности и уединенности.
Саму же действительность повседневных реальностей художник способен видеть из той сферы удаления, где уже в принципе дано избавление от всех страстей и отречение от всех пристрастий. «Близко стелется эта сфера над землей, – писал Иванов, – и все, до самого малого, оттуда отчетливо видимо, как видимо и все сокровенное в душевном теле животных; высшее же, что вознесено над этой сферой, как и то сокровенное, что таится, замкнутое телесностью, внизу вовсе не видимо…»[560]