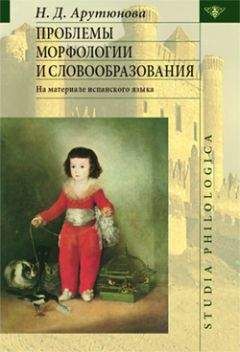Вардан Айрапетян - Русские толкования
К творению по своему образу и подобию (Бытие, 1.26) — Жуковский:
Что наш язык земной пред дивною природой?
Кто мог создание в словах пересоздать?
Сие столь смутное, волнующее нас,
Сия сходящая святыня с вышины,
Сие присутствие Создателя в созданье —
Какой для них язык?.. — —
(Невыразимое); но тютчевское
И чувства нет в твоих очах,
И правды нет в твоих речах,
И нет души в тебе.
Мужайся, сердце, до конца:
И нет в творении Творца!
И смысла нет в мольбе!
— вероятно, перед зеркалом.
К притче Борхеса о художнике — из писем, тоже старческих, Бориса Кузина к А. Гурвич (ВФ, 1992, № 5) от 9 и 28.8.1971 и 18.2.73:
Я думаю, что решительно всякий человек, что бы он в жизни ни делал, в конце концов занят единственной работой. — Он создает свой автопортрет. — Но сам никто не может оценить, какой он смастерил свой портрет. А в нем итог и оценка всей прожитой жизни.--Как всегда, конечное решение вопроса уходит в метафизику.--
Вы правильно поняли один из выводов, вытекающих из моего представления об автопортрете. Но я, видимо, недостаточно объяснил самую его сущность. Она, пожалуй, лучше всего вскрывается через сравнение с нерукотворным отчетом человека за всю его прожитую жизнь на последнем суде. — За всю деятельность, за всё поведение, за реализацию возможностей, какие он получил при рождении и через воспитание. Этот отчет нельзя сфальсифицировать, потому что всякая ложь неизбежно сама войдет в сделанный человеком, но сделанный без сознания, свой портрет. В нем одна только правда.--
--И всё чаще приходят на ум парадоксальные слова Радля, что самое интересное в науке — биографии ученых. Я бы только вместо «биографии» сказал «автопортреты».
Художник-человечество пишет естественнонаучную картину мира, а получается гуманитарный автопортрет. «Сомнений нет: исследование человека делает только первые шаги. А он между тем видит уже свой предел.»[63] —Канетти, запись 1980.
Отчаяние Набокова. Одержимый зеркалом антигерой и рассказчик набоковского Отчаяния Герман увидел в бродяге Феликсе своего двойника, но больше никто этого сходства не признаёт. «И еще я думал о том, что именно мне, особенно любившему и знавшему свое лицо, было легче, чем другому, обратить внимание на двойника--» (1) — так издевается над Германом от его же имени безжалостный автор, ведь «Имя свое всяк знает, а в лицо себя никто не помнит» или «В лицо человек сам себя не признáет, а имя свое знает», по пословице. Если левша Феликс и похож на Германа, то зеркально, мнимо похож. «Я медленно поднял правую руку, но его шуйца», т. е. левая рука, «не поднялась, а я почти ожидал этого. Я прищурил левый глаз, но оба его глаза остались открытыми.» (1). Ардалион, художник-любитель, написал портрет Германа, но никакого сходства тот не видит (3), для него похоже и ценно только его отражение в зеркале и «живое отражение» (4), будто бы наоборот Бахтину в Авторе и герое (ЭСТ, с. 33 сл.). Объясняя, почему Феликс «мало чувствовал наше сходство», — «он видел себя таким, каким был на снимке или в зеркале, то есть как бы справа налево, не так, как в действительности» (9), Герман не догадывается, что в действительности он со своим словечком олакрез «сам такой». — Всё это занятно, но основная тема, торжествующее несходство, которую автор проводит «от противного» — от совсем противного героя-рассказчика, чья тема «сходство двух людей» (9), не делается приятной и приемлемой. «Всякое лицо — уникум», торжествующе говорит Ардалион Герману. «Вы еще скажите, что все японцы между собою схожи. Вы забываете, синьор, что художник видит именно разницу. Сходство видит профан.--» (2), он же в письме тому же: «--схожих людей нет на свете и не может быть--» (11). Казалось бы, это персонализм, но Ардалион Владимирович забывает, что сперва улавливается именно сходство как общая разница, скажем сходство всех японцев между собою в их отличии от нас, японский мировой человек. А частную разницу художник видит когда уже перестает видеть общую; так не профан ли он сам, не по себе ли судит? Враг всего общего, противник пошлости, индивидуалист Набоков не уравновешивал принципа индивидуации правом на мысленное отождествление и обобщение, и вместо правды персонализма вышла искусная полуправда самости. Отчаяние в конечном счете — злая пародия на эмпатическое «Я это ты», ставшее сквозной формулой и заглавием книги Карла Моррисона. О Набокове ср. П. Кузнецов, Утопия одиноч., к Отчаянию см. С. Давыдов в Справ. Наб., с. 88—101.
Достоевский и Набоков. «Достоевский, подобно гётевскому Прометею», сказал Бахтин (Поэт. Дост., с. 7), «создает не безгласных рабов (как Зевс), а свободных людей, способных стать рядом со своим творцом, не соглашаться с ним и даже восставать на него.» Этой знакомой многим писателям независимости героя от автора Набоков никогда не чувствовал: «Я совершенный диктатор в собственном мире--»; он возражает своему критику, цитируя его: «как я могу „умалять“ до степени нулей, и прочее, вымышленных мною же персонажей? — », «Мои персонажи — галерные рабы.» — из шестого и седьмого интервью в Твердых мнениях (с. 69 и 94 сл.). Достоевский «создает» героя, но не «выдумывает», согласно Бахтину (см. Поэт. Дост., с. 110 сл.), а Набоков именно выдумал Германа, этого нового Передонова, причем сделал антигероя рассказчиком не для исповеди, как в Записках из подполья, но чтобы верней его умалить. Подпольный антигерой это сам Достоевский, а Герман это Набоков наоборот. У Достоевского по Автору и герою «кризис автора», то есть самости, а у Набокова, можно сказать, кризис героя, другости.
Герой, антигерой и персонаж. Герой повествования тот, о ком главным образом идет речь, хотя бы он был «антигерой» (слово Достоевского — Записки из подполья, 2.10). Леониду Андрееву удалось в Передонове, сологубовском «мелком бесе», увидеть героическое: «Прочел недавно Передонова — с очарованием и страхом. И странно: в этот раз выделилось другое — его тоска. Какая тоска! И ведь он герой, он велик, он душа великого, запертая в теле скота, он один среди всего пейзажа — человек. Ардальон Борисыч — человек! А это так.» — письмо Сологубу от 28.7.1915 (ЛН 72, с. 48). У раннего Бахтина сказано, что герой произведения
может быть плох, жалок, во всех отношениях побежден и превзойден, но к нему приковано мое заинтересованное внимание в эстетическом видении, вокруг него — дурного, как вокруг всё же единственного ценностного центра, располагается всё во всех отношениях содержательно лучшее. Человек здесь вовсе не по хорошу мил, а по милу хорош. В этом вся специфика эстетического видения.
— Филос. поступка (с. 128), так и поздний Бахтин в записи о Гоголе: «Чистое отрицание не может породить образа. В образе (даже самом отрицательном) всегда есть момент положительный (любви-любования).» (ЭСТ1 с. 360); но это не про набоковского Германа. Единственный герой Отчаяния — сам автор, кто так ловко всё выдумал. Вот Розанов, Мимолетное под 29.5.1915, о Льве Толстом, а подходит и Набокову с его «умаленными» персонажами:
Это недоверие и неуважение к человеку, предрасположение не уважать его (гоголевская черточка) была у Толстого вечно, с юности. «У меня героев нет». — «Врешь, братец — он есть: это твое разросшееся, преувеличенное Я».
Я люблю писателей с героями. Это добрые, милые люди. Они близки к Гомеру, у которого не «героев» не было. Отличное время. Счастливое время.
Героя и персонажей Битов различает так: «Персонажей мы познаём снаружи, героя — изнутри; в персонаже мы узнаём других, в герое — себя. — Один и все — вот что для нас герой, вот в чем наше узнавание.» — Черепаха и Ахиллес, «один и все» это инакость и другость, сюда же «кругозор» и «окружение» по Бахтину.
Набоков в зеркале Германа. Из-за полной «противности» героя Отчаяния его автору узнаёшь про автора слишком многое. Этот пошляк Герман не устает любоваться своим лицом, а такой особенный Владимир Набоков, судя по Герману, не выносил себя в зеркале или на снимках. Неужели вон тот — это я? (Ходасевич) — так у Набокова и с произнесением своего имени, в силу параллельности имени лицу: «-есть Петры и Иваны, которые не могут без чувства фальши произнести Петя, Ваня, меж тем как есть другие, которые, передавая вам длинный разговор, раз двадцать просмакуют свое имя и отчество, или еще хуже — прозвище.» — Подвиг (3). Я не могу без чувства фальши поглядеться в зеркало (ср. Бахтин), меж тем как Герман смакует свое отражение. В Уединенном Розанова, запись Удивительно противна мне моя фамилия--, насчет «я для другого» то же самое, но по-юродски, а не скрытно. Бахтин сказал: «Большинство людей живет не своей исключительностью», то есть инакостью-самостью, «а своей другостью.» (К вопросам самосознания и самооценки-- в БСС 5, с. 73); Набоков жил, конечно, своей избалованной самостью и свысока отчуждал другого в себе. Он увидел в зеркале, что он как все, но примириться с этой заурядной наружностью не смог и взялся под именем волшебной птицы Сирин в сочинениях на тему иного, или потусторонности, говоря его же словом вслед за Верой Набоковой (в предисловии к его Стихам; ср. В. Александров, Наб. потуст.), искусно убеждать других, что он иной. А между Розановым и Набоковым встал Д. Галковский-Одинокое с 72-ым примечанием Бесконечного тупика— «--Свою же телесную субстанцию я всегда расценивал как хамство какое-то.--Но этот вот хамски сопящий хомо сапиенс — это я? Наглая ложь! Я существую, но в виде лжи.--Истина изрекается в реальность и становится ложью. А я, моё „я“ — оно неизреченно-- „Мне стыдно, что у меня есть тело“--» — и примечаниями к нему.