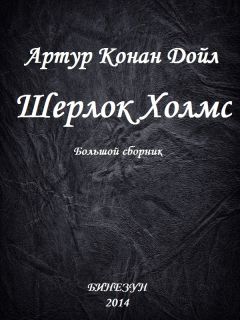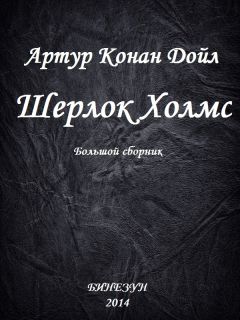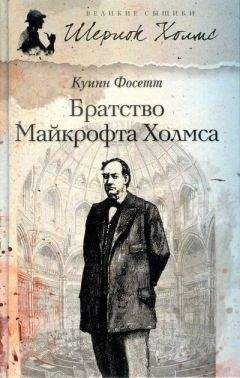Леонид Карасев - Гоголь в тексте
Полезно прислушаться к самой фамилии главного героя «Мертвых душ»: «Чичиков». У А. Белого Чичиков – это «чижик». Однако помимо натяжки чисто звуковой, данный вариант расшифровки фамилии Павла Ивановича с общей идеей поэмы никак не сопрягается. Чичиков – далеко не «птичка Божия», а существо весьма хитрое, может быть, даже опасное, во всяком случае, с точки зрения закона. Сопоставление «Мертвых душ» с «Дон Кихотом» позволяет установить связь между Селифаном и Санчо, Петрушкой и Пансо, и Чичиковым и Кихотом, прочитанным на старинный манер, как «Чишот»[93]. В звукосочетании «чичиков» можно также расслышать «чечевицу» или «чеченца», однако эти слова мало что проясняют в контексте смыслового целого поэмы (а Гоголь, как известно, почти всегда называл своих героев не просто так, а со смыслом).
Если же смотреть на дело с предлагаемой мной точки зрения, которая – лишь вариант возможных интерпретаций в этой туманной области, тогда в фамилии Павла Ивановича проступят звуки обезьяньего голоса и имен, которыми их нередко называют: «Чита» или «Чичи» (ср. с итальянским обозначением обезьяны – scimmia). Иначе говоря, у Чичикова обезьянья фамилия, как будто специально созданная для осмеяния и передразнивания. Этим, собственно, и занимается в финале первого тома «Мертвых душ», увидев человека, похожего на Чичикова, некий воображаемый читатель: «…как ребенок, позабыв всякое приличие, должное званию и летам, побежит за ним вдогонку, поддразнивая сзади и приговаривая: “Чичиков! Чичиков! Чичиков!”».
Еще один аргумент из области литературных параллелей. Эпизод, где Павел Иванович произносит свое знаменитое: «Давненько не брал я в руки шашек», содержит набор смыслов, весьма близкий тому, что присутствует в сказке об ифрите и царевиче из «Тысячи и одной ночи». Чичиков-обезьяна играл в шашки. Царевич, превращенный ифритом в обезьяну, играл в шахматы. И царевич, и Чичиков выигрывают свои партии (первый фактически, второй – потенциально). И тот и другой рыдают в финале и рвут на себе волосы (царевич в конце сказки, Чичиков во втором томе поэмы). Возможно, речь идет о простом совпадении, однако общий рисунок событий весьма схож, тем более что превращение царевича из обезьяны в человека происходит на фоне появления различных животных – льва, кота, волка, петуха и др.
Животные в арабской сказке – это различные облики беса-ифрита. Зооморфия «Мертвых душ» – также жест в сторону природного низа, знак того состояния, которое человек должен преодолеть. В этом смысле мир, в котором находится Чичиков, можно назвать если не инфернальным, то, во всяком случае, до-человеческим, звериным. Павел Иванович Чичиков как раз и показан на зверином фоне. Он – посреди заповедника, где бродят медведи, собаки, коты, пауки. Он – в окружении ходячих «мертвых душ». Если учесть латино-итальянскую параллель («душа» и «животное» – anima и animal), то название гоголевской поэмы оказывается своеобразным оксюмороном: то ли «мертвые живые», то ли «мертвые животные». Хотя параллель эта и необязательна, само противопоставление «живых» людей «мертвым» животным не лишено смысла. Животные живут, не осознавая себя, своей смертности; человек же знает не только о жизни, но и о предстоящей ему смерти. Парадокс ситуации в том, что неведенье в отношении смерти делает животных как бы мертвыми при жизни, в то время как человека знание о смерти делает по-настоящему живым. Если животное постоянно испытывает страх, тревогу (пугливы и насторожены все, начиная от зайцев, и кончая львами и волками), то человек, имея все основания задохнутся от страха перед неизбежностью смерти, способен жить так, будто ее нет вовсе.
И более того, сама мысль о смерти очищает душу от скверны, во всяком случае, должна была бы очищать, если бы была продумана по-настоящему глубоко. «Будьте не мертвые, а живые души, – говорит Гоголь. – Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом…»[94]. А это значит, что страх смерти может быть ослаблен, отодвинут верой в жизнь вечную. Душа должна стремиться вверх, прочь от всего того, что тянет ее вниз, в царство «мертвых душ», в царство Зверя. Как раз такого движения не наблюдается в Чичикове, каким он явлен в первом томе поэмы. Нельзя сказать, что он безнадежно погряз во грехе, однако жизнь его скорее напоминает сон, нежели человеческую, исполненную высокого смысла жизнь. Чичиков живет и не живет одновременно. Его существование ущербно, искажено; оно примерно так же походит на жизнь подлинную, как обезьяна походит на человека.
Чичиков – фигура эмблематическая. И если в нем сидит обезьяна, значит, она сидит в самом народе. И хотя Гоголь хотел показать Россию лишь «с одного боку», взять такого героя, «чтобы показать недостатки и пороки русского человека, а не его достоинства и добродетели», от обобщений здесь не уйти. Интересующая нас тема обезьянства, то есть подражания, комического копирования, появляется в гоголевских текстах именно там, где ее в данном случае и следовало бы ожидать, – в моменты обобщений. Например, в «Шинели»: «…на святой Руси все заражено подражанием, всякий дразнит и корчит своего начальника»[95]. Или в «Мертвых душах»: «…бал, не в русском духе, не в русской натуре, черт знает, что такое: взрослый, совершеннолетний вдруг выскочит весь в черном, общипанный, обтянутый как чертик, и давай месить ногами». И далее: «Все из обезьянства, все из обезьянства!». Или еще определеннее – в беседе Гоголя с кн. Е. И. Репниной: «Француз играет, немец читает, англичанин живет, а русский обезьянствует»[96]. Тут у Гоголя в предшественниках А. Грибоедов («рождены мы все перенимать»; «ни звука русского, ни русского лица») и С. Шевырев, по «синтетической» теории которого русский народ «будет оборотнем, то италиянским, то французским, то немецким, то английским, то каким хотите, не изменяя в целом своей народной самостоятельности»[97].
Размышляя о будущности России в связи с проблемой западных «влияний», Гоголь приходит к заключению, что в вопросе заимствования западного опыта «русский народ невоздержан. Он перешел границы всего и впал в крайность. Жадно он схватился за все, что нужно и не нужно». В итоге – упадок хозяйства, земледелия. И снова – то же ключевое для нашего рассмотрения слово: «Страсть к обезьянству стала так велика, что мы готовы завести железные дороги прежде, чем подумали, откуда взять топлива»[98].
Рассуждая дальше, Гоголь пишет, что несмотря на «обезьянство», страсть к подражанию, русский народ сохраняет возможность на обретение лучшего положения. «Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя то, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней» («Светлое Воскресенье»). «Растопленный металл» в данном случае то же, что и «обезьянство». Это возможность изменения, в том числе и в лучшую сторону, в сторону расцвета духовного. А именно этой мыслью держится план гоголевской поэмы, которая должна была рассказать о превращении души «мертвой» – в живую. И вот почему Чичиков сопоставлен именно с обезьяной, а не с каким либо другим животным.
Среди всех зверей обезьяна занимает совершенно особое место, и если можно смело провести черту между человеком и любым животным, сказав, что они принадлежат к разным мирам, то в случае с обезьяной это не так. Обезьяна подозрительно похожа на человека; она будто намекает на его звериное прошлое. В гоголевские времена идея родства человека и обезьяны была весьма популярной; по Бюффону, например, обезьяна – это деградировавший человек; тогда же создавались целые серии рисунков, которые показывали, как человек превращается в обезьяну и наоборот. Подводя итог сказанному, можно предположить, что Гоголь строил план своей поэмы, опираясь в том числе и на эту аналогию. Что касается вопроса о том, делалось это сознательно или нет, то ответ найти вряд ли удастся, поскольку никаких свидетельств по этому поводу не осталось. В принципе, это и не столь важно: главное, что звериная тема оказалась органичной, созвучной замыслу, а сам Чичиков-обезьяна как нельзя лучше соответствовал плану, согласно которому ему предстояло когда-нибудь превратиться в человека. Однако как раз с этой метаморфозой возникли серьезные трудности.
* * *Гоголь надеялся, что, пройдя сквозь испытания и муки душевные, Чичиков преобразится и оживет духовно. На вопрос архимандрита Феодора (А. М. Бухарева), «оживет ли, как следует, Павел Иванович», Гоголь ответил, что «это непременно будет, и оживлению его послужит прямым участием сам царь, и первым вздохом Чичикова для истинной прочной жизни должна кончиться поэма». Если в первом томе «Мертвых душ» Чичиков повеселился и посмеялся немало и от своей обезьяньей природы не отказался, то во втором томе устойчивым знаком, предвещающим чичиковское преображение, становится стихия плача. «Слезы вдруг хлынули из глаз его», или: «Он не договорил, зарыдал громко от нестерпимой боли сердца» и т. д. Оглядка Гоголя на христианское понимание плача как высшей, по сравнению со смехом, ценности, здесь очевидна. На смену комизму и легкости первого тома приходят патетика и слезы второго. Становится понятной и логика превращения Чичикова из обезьяны в человека, из души «мертвой» в «живую», христианскую. Умерив желание смеяться и смешить читателя, Гоголь как будто пытается освободить Чичикова от его животной природы.