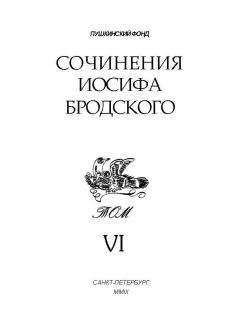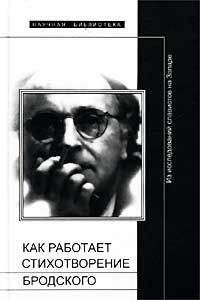Коллектив авторов - Пристальное прочтение Бродского. Сборник статей под ред. В.И. Козлова
Последние строки о золотистой брови совершают переход в интимный план. Поднятая бровь — жест удивления: на подругу надвигается тень — это тень ночи, тень страсти, жизни. Совершается выход из «вечного» света в жизнь, совершающуюся в темноте.
X
Частная жизнь. Рваные мысли, страхи.
Ватное одеяло бесформенней, чем Европа.
С помощью мятой куртки и голубой рубахи
что-то еще отражается в зеркале гардероба.
Выпьем чаю, лицо, чтобы раздвинуть губы.
Воздух обложен комнатой, как оброком.
Сойки, вспорхнув, покидают купы
пиний — от брошенного ненароком
взгляда в окно. Рим, человек, бумага;
хвост дописанной буквы — точно мелькнула крыса.
Так уменьшаются вещи в их перспективе, благо
тут она безупречна. Так на льду Танаиса,
пропадая из виду, дрожа всем телом,
высохшим лавром прикрывши темя,
бредут в лежащее за пределом
всякой великой державы время.
Десятое стихотворение начинается с той же точки, что и весь цикл: с обстановки интимности, частности. Суть этой жизни — «рваные мысли, страхи», «одеяло», которое в контексте частной жизни вполне сопоставимо с «Европой». Лирический субъект только благодаря вещам видит свое отражение в зеркале. Одежда в мире цикла — это то, что нажито. Это — «складки», приближающие человека к смерти. Перспектива быть погребенным в «складках», «исчезнуть навек в кулисах» стоит за уже ощущаемой лирическим субъектом способностью отражаться лишь «с помощью мятой куртки». Обращение к своему лицу — крайняя степень отчуждения от своего земного существования.
Перекличка этого стихотворения с начальным очевидна. Так же, как «красное дерево» было пленено квартирой, так и комната ограничивает воздух. В обоих случаях идея будто оказывается обременена своим земным воплощением.
Движение взгляда порождает изменения во внешнем мире: «Сойки, вспорхнув, покидают купы / пиний — от брошенного ненароком / взгляда в окно…». Это очень важно: тело в зеркале не отражается, а взгляд сгоняет соек с пихты! В мире, который видит лирический субъект, взгляд весит больше, чем тело, — значит, вокруг идеальный, «вечный» мир «вечного города».
В этом стихотворении выстроены в ряд главные «действующие лица» цикла: Рим, человек, бумага. Только пространство не ограничивается городом. Вечный город творится чернилами — поэтому «хвост дописанной буквы» сравнивается с «крысой». Реальность уменьшается до размеров буквы. А «лед Танаиса» — метафора чистого листа, связанного с ситуацией творчества. Творчество, в свою очередь, мыслилось в цикле как возможное только в области Севера. Тогда понятно, почему чистый лист мира идей сравнивается со льдом реки: творчество в цикле помещается в атмосферу холода.
Процесс писания — это процесс проживания. Буква описывает жизнь, поэтому, когда она дописана, земная жизнь останавливается. Но начинается жизнь другая — в мире вечности. С точки зрения вечности человеческая жизнь так же мимолетна, как появление и исчезновение крысы из поля зрения. Сниженный образ выбран, вероятно, чтобы подчеркнуть ничтожность человека.
Финальный образ бредущих во время, лежащее за пределом земной жизни, — ключевой в цикле. Это — движение человека по белому листу, «в поисках смысла». Даже человек, живущий в «вечном городе», в творческом акте покидает обжитое пространство, ощущает себя смертным, движущимся по направлению к искомой вечности.
XI
Лесбия, Юлия, Цинтия, Ливия, Микелина.
Бюст, причинное место, бедра, колечки ворса.
Обожженная небом, мягкая в пальцах глина —
плоть, принявшая вечность как анонимность торса.
Вы — источники бессмертия: знавшие вас нагими,
сами стали катуллом, статуями, траяном,
августом и другими. Временные богини!
Вам приятнее верить, нежели постоянным.
Славься, круглый живот, лядвие с нежной кожей!
Белый на белом, как мечта Казимира,
летним вечером я, самый смертный прохожий
среди развалин, торчащих как ребра мира,
нетерпеливым ртом пью вино из ключицы;
небо бледней щеки с золотистой мушкой.
И купола смотрят вверх, как сосцы волчицы,
накормившей Рема и Ромула и уснувшей.
Первая часть одиннадцатого стихотворения посвящена женщинам. Перечисление имен, а затем частей женского тела говорит о том, что темой для размышлений лирического субъекта стала не одна женщина, а некая идея, представление о женщине. При этом женщина предстает как сотворенная: в начале вылепленная пальцами из мягкой глины, а затем обожженная солнцем. В образе римской статуи она «приняла вечность» — то есть замерла в своем вылепленном состоянии. Также этим римским статуям безразличен их творец. В этом узнается прошедший через весь цикл мотив безразличности элементов вечного мира к самой жизни.
Потому эти «постоянные» женщины и являются источниками бессмертия: те, кто знал их «нагими», то есть те, у кого перед глазами всегда стоял образец вечности (статуя), сами стремились стать бессмертными. И наряду с римскими статуями бессмертными стали поэт Катулл и императоры Траян и Август. С другой стороны, Траян и Август известны как императоры, осчастливившие свой народ.
Кроме того, «нагота» здесь употреблена и в прямом значении. Последней в ряду стоит Микелина, реальная римская женщина Бродского. «Нагота» здесь — не только воплощенная идея, но и признак жизни: «знавшие™ нагими» — знавшие живыми. Для лирического субъекта эти женщины — когда-то воплощения полного совершенства.
Для лирического субъекта земная женщина — это богиня, поскольку она делает мужчину счастливым во времени — в жизни. «Временным богиням» «приятнее верить, нежели постоянным», лирический субъект явно совершает ценностный выбор в пользу живых, а не в пользу статуй. Выбор земной женщины — это и выбор смертного удела. Поэтому далее лирический субъект называет себя «самым смертным прохожим». Он не выделяется из окружающего пространства — «белый на белом», он — часть Рима, мира — также превращается в развалину, как и все в мире превращается с течением времени. Внутренний мир лирического субъекта расширился до мирового уровня. «Ребра мира» перекликаются с образом «остова» из первого стихотворения. Но разница в масштабах очевидна: в первом стихотворении — частная квартира, в одиннадцатом — весь мир.
Финальный образ мифической волчицы соотносится с образом «временных богинь». Вскормившая Рема и Ромула, основателей Рима, она стала для них «источником бессмертия». В то же время, ее сон — ее смерть. Именно по причине этой соотнесенности волчицы с темами жизни и смерти появляется сравнение «сосцов волчицы» с куполами. Купола, то есть сам Рим, стал для лирического субъекта местом, в котором он, с одной стороны, остро ощутил свою смертность. А с другой стороны, именно в Риме он стал причастным вечности, им была осознана «вечность» «пера».
XI
Наклонись, я шепну Тебе на ухо что-то: я
благодарен за все; за куриный хрящик
и за стрекот ножниц, уже кроящих
мне пустоту, раз она — Твоя.
Ничего, что черна. Ничего, что в ней
ни руки, ни лица, ни его овала.
Чем незримей вещь, тем оно верней,
что она когда-то существовала
на земле, и тем больше она — везде.
Ты был первым, с кем это случилось, правда?
Только то и держится на гвозде,
что не делится без остатка на два.
Я был в Риме. Был залит светом. Так,
как только может мечтать обломок!
На сетчатке моей — золотой пятак.
Хватит на всю длину потемок.
В финальном стихотворении цикла лирический субъект обращается к Творцу, чья фигура подчеркивается заглавной буквой обращения. Лирическое «я» благодарно за чувство наполненности, которое подарил сотворенным Богом мир. Причем, это наполненность мелочами («куриный хрящик»), в которых тем не менее узнается «стрекот ножниц», которыми кроится судьба. За этим «стрекотом» лирический субъект уже видит край, за которым — пустота. Он готов перейти в этот вечный мир — «Ничего, что черна. Ничего, что в ней / ни руки, ни лица, ни его овала». Но пустота этого мира — лишь формальная. Отсутствие в этом мире вещей в полной мере компенсируется избытком идей. В этом лирический субъект даже находит успокоение. Ведь «чем незримее вещь», тем ближе она к идеальному, первоначальному состоянию, она не искажена воплощением.
«Ты был первым, с кем это случилось, правда?» — это прямая апелляция к опыту сына Божия, который совершил переход от жизни к смерти и обратно. Его физическое отсутствие лучше всего убеждает в том, что он «когда-то существовал» — был распят, «держался на гвозде». Он был тем «первым», кто воплотил в себе совершенство, поэтому его нельзя разделить «без остатка на два»: Христос «не делится» на идею и ее воплощение.