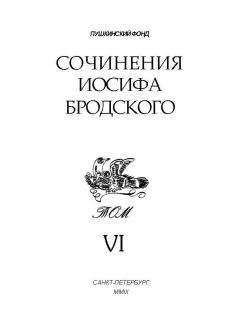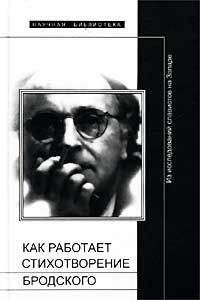Коллектив авторов - Пристальное прочтение Бродского. Сборник статей под ред. В.И. Козлова
Примечательно, что «в очередях за смыслом» стоят «литеры», — лишь написанное обретает смысл. Это значит, что в жизни как абстрактной идее смысла нет, как нет смысла в свече, не сопровождающей процесс письма. Однако, само это письмо возможно только при свете свечи. В финале стихотворения эта неразрывность приведет фактически к отождествлению образов: чернила станут таким же источником света, как и свеча.
Жизнь всегда больше, шире того, что о ней пишут. Так и свет покрывает большую площадь, чем почерк. Он проливается как на написанное, так и на окружающие предметы. Этим и объясняется внимание лирического субъекта к вещам. Он восторгается жизнью. На формальном уровне это выражено восклицаниями, в форму которых облечено восхищение жизнью.
Именно жизнь заполняет «вечным пером» пустую страницу. Эти чернила и есть «копоть» жизни. Свеча оставляет след от своего горения — «копоть» — на потолке. Характерен образ, отсылающий к первому стихотворению: потолок — это условное застывшее море вечности. Горение свечи и «копоть» на потолке — это смертная человеческая жизнь, оставляющая след в вечности. Но эта жизнь подчеркнуто лишена индивидуального начала: свеча, удел которой — потухнуть, в стихотворении не погаснет, да и «копоть»-чернила используются «вечным пером». В конечном счете, «копоть» потому и «воспаряет выше / помыслов автора…», что заключает в себе саму идею жизни. А идея, заключенная в мельчайших частицах мироздания, «выше» любых мыслей человека-автора.
Но лирический субъект тут же делает оговорку: именно в человеческих мыслях жизнь обретает «имя». Человек «опредмечивает» жизнь, осмысляя ее. Ведь «копоть» — это и «ерунда» первого стихотворения. В результате жизнь перестает быть абстрактным понятием.
Снова лирический субъект акцентирует переходное состояние: «…на исходе тысячелетья в Риме». Очевидно, в «Римских элегиях» оно связано с острым ощущением бытия и неким откровением о природе человека и устройства мира.
По сути, в этом стихотворении становится понятно, ради чего, собственно, лирический субъект взялся за перо: он выводит слова «в память» о «субтильных запятых» жизни. Мотив памяти играет чрезвычайно важную роль в цикле. Память, которую о себе оставляет человек, продлевает его жизнь, делает его бессмертным в мире идей. Лирический субъект же творит в память о самой жизни. В графической системе языка ничто не может выразить идею о непрерывности жизни более точно, чем запятая. Кроме того, визуально запятая схожа с формой огня свечи (свечного язычка). Характерны и выведенные слова — «факел», «фитиль», «светильник»: все они связаны с идеей света. Более того, эти три слова фонетически, с помощью аллитерации, создают эффект перетекания: «факел» и «фитиль»; «фитиль» и «светильник».
Но еще более показательно то, что запятая противопоставляется точке. Благодаря тому, что точка не поставлена, «комната выглядит, как в начале». Что это значит? Это и начало стихотворения: в таком случае акцент на вечном повторении сюжета «писания». Это и начало жизненного цикла. Это и начало жизни вообще — в ней нет завершенности. В гимне жизни нет места смерти. Отрицание точки — это утверждение мирового коловращения. На уровне стихотворения это выражено пространственным кольцом, в котором заложена идея беспрерывного движения по кругу, когда человеческая жизнь начинает обретать «подобье целого».
И именно поэтому «сочиняя, перо мало что сочинило»: рука пишущего двигается по закону инерции, перетекания. Эта рука, по сути, и не «сочиняет», она встроена в процесс перетекания жизни в вечность. А указание на то, что слова выводятся «вечным пером» практически обезличивают лирического субъекта: он здесь лишь медиатор. Восьмое стихотворение — это гимн жизни, который поется, по большому счету, самой жизнью. Движение к этой пассивной роли лирического «я» было последовательным: в предыдущих стихотворениях оно выражалось в стремлении к позиции вненаходимости.
Последние строки — «О, сколько света дают ночами / сливающиеся с темнотой чернила» — говорят о том, что ощущение жизни к человеку приходит в процессе писания. Именно в тот момент, когда его рука выводит сливающимися с темнотой чернилами «вереницу литер», он залит светом — он чувствует себя опущенным в вечный поток жизни. И теперь сами буквы становятся источниками света: в них воплотилась жизнь.
IX
Скорлупа куполов, позвоночники колоколен.
Колоннады, раскинувшей члены, покой и нега.
Ястреб над головой, как квадратный корень
из бездонного, как до молитвы, неба.
Свет пожинает больше, чем он посеял:
тело способно скрыться, но тень не спрячешь.
В этих широтах все окна глядят на Север,
где пьешь тем больше, чем меньше значишь.
Север! в огромный айсберг вмерзшее пианино,
мелкая оспа кварца в гранитной вазе,
не способная взгляда остановить равнина,
десять бегущих пальцев милого Ашкенази.
Больше туда не выдвигать кордона.
Только буквы в когорты строит перо на Юге.
И золотистая бровь, как закат на карнизе дома,
поднимается вверх, и темнеют глаза подруги.
Лирический сюжет девятого стихотворения завязан на противопоставлении Севера и Юга. Характеристика Юга, который представлен Римом, последовательно вытекает из предыдущих стихотворений. Но образ Севера появляется впервые.
«Скорлупа куполов» — это аналог образа рыбьей «чешуи» из первого стихотворения, а «позвоночники колоколен» — аналог образа «остова». Эти образы связаны с мотивом течения времени — в этом потоке живет подразумеваемая рыба. С другой стороны, «покой и нега» римских вещей свидетельствуют о том, что они замерли, знаменуя пик расцвета римской империи. В описании пространства происходит столкновение на первый взгляд несовместимых характеристик. Однако это объяснимо: даже принадлежащие миру вечному предметы подвергаются разрушительному влиянию времени. Римские церкви, статуи, колоннады — все, что воплощает вечную идею — подвержено старению.
Образ ястреба можно интерпретировать как своеобразный символ человека. Человеку отмерена лишь та часть из бездны времени, которая выделяется квадратным корнем.
«Свет пожинает больше, чем он посеял…» — в этих строках, вероятнее всего, речь идет не о том свете, что излучает солнце, поскольку главной его характеристикой было ослепление цезарей. Ослепленные солнцем, цезари не видели того, что в тени, — саму жизнь. В данном же случае свет характеризуется тем, что он дает телу возможность скрыться. Ощущение себя в потоке жизни дает возможность телу скрыться, раствориться в вещном мире жизни. И этот поток сампо себе вечен. То есть свет дает возможность окунуться в вечность. Но «тень» — это второе «я» человека, которое выражает связь человека с земным миром, то есть всегда напоминает о смертности — ее не спрячешь. Это тень, отбрасываемая светом буквы-свечи из предыдущего стихотворения. Возможно, именно образ тени порождает образ Севера: если Юг ассоциируется с солнцем, то тень предполагает Север. Сама память о существовании тени в солнечном мире, созданном для человека, — это память о его оборотной стороне, где значимость человека редко падает.
Примечательно то, как описывается Север. Это огромный айсберг — поэтический аналог дроби: числитель на поверхности, знаменатель — под водой. Выходит, Север устроен по той же модели, что и человек. С другой стороны, айсберг — это застывшая от холода вода. Пространство Севера — это пространство, застывшее от холода так же, как и пространство Юга (Рима) застыло от иссушающего солнца. Кроме того, поскольку вода в цикле связана с течением времени, лед воспринимается как застывшее время. Мир Севера предстает таким же миром вне времени, вечным миром, как и мир Юга. Юг и Север отличны от жизни, это — разные воплощения мира идей, метафизические Рай и Ад.
Пианино, которое в айсберг вмерзло, — конечно, значимый образ замерзшей музыки. Это еще один знак того, что жизнь на Севере замерла: не играет музыка — не течет время.
Север, как и мир вообще — бескрайнее пространство. И по нему «пробегают» пальцы пианиста. Точно так же переставлялись ноги на римских площадях. Это звук-шаг жизни. Таким образом, образ Севера изображен как нечто противоположное римскому миру (жара — холод, влажность — лед), однако выражает он ту же идею. Север, как и Рим — это лишь фрагмент, определив свойства которого, можно судить и о целом — мире.
В то же время Север представляет собой своеобразный творческий хронотоп. Во-первых, потому, что это та часть мира, которая соотносится поэтическим сознанием с предметом искусства — гранитной вазой. Во-вторых, потому, что игра «милого Ашкенази»[127] звучала в той части света, которая у лирического субъекта ассоциируется с Севером. Создается картина холодного творческого мира — оборотная сторона солнечного предметного Рима. Одновременно Север связан с элегическим воспоминанием о покинутом северном мире. «Больше туда не выдвигать кордона. / Только буквы в когорты строит перо на Юге». Творчество перенесено на Юг. Творчество — мотивная «рифма» южного Рима и покинутой родины. По отбору лексики («кордон», «когорта») чувствуется настороженное отношение лирического субъекта к Северу.