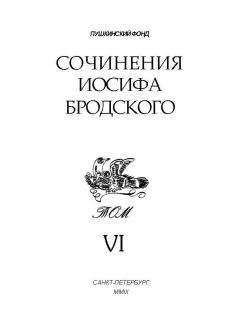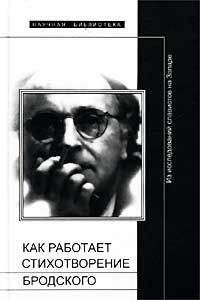Коллектив авторов - Пристальное прочтение Бродского. Сборник статей под ред. В.И. Козлова
Поэтика Бродского — готовая взлетная полоса для любого, кто хочет попробовать. Экзистенциально честный полет для любого искушенного неофита — это то, ради чего стоит ввергаться в поэзию. Отсюда — такое обилие подражаний Бродскому. Корень этой подражательности не столько узнаваемая, легко тиражируемая бесцветная интонация, сколько желание пожить в мире подготовленных поэтом абсолютов — пыльного пространства, ужавшегося в вещь; времени, разлившегося в огромном ряду морских образов; пустоты, предстающей в качестве абсолютной перспективы всего; языка — единственной силы, которая способна заполнять пустоту и тем самым даровать человеку свободу.
Варварское одиночество человека у Бродского отлилось в образы рыб, знаменитой «трески» из «Колыбельной», любого морского обитателя — их ряд в мире поэта весьма разнообразен, — среда обитания которого — само время.
Кровь у жителей моря холодней, чем у нас; их жуткий
вид леденит нашу кровь даже в рыбной лавке.
(«Новый Жюль Верн»)
Рыба здесь — пращур, бытие человека во времени — его докуль-турное состояние. И в то же время рыба — символ Христа, что неоднократно Бродским обыгрывается — не столько в религиозном, сколько в метафизическом смысле. Но главное — дохристианское одиночество во времени и предполагаемая им «ледяная» поэтика может показаться фирменным приемом, который легко тиражировать. Действительно, Бродский пустил в среде подражателей стилистическую волну наукообразных поэтических определений с обязательно фигурирующими в них временем и пространством. Еще один легкий для копирования элемент — невозможность какой-либо коммуникации.
У Бродского человек невыразим в слове («От всего человека вам остается часть / речи» — курсив мой. — В. К.), опыт русского языка непереводим на английский, прошлое не связано с настоящим, причина — со следствием. Казалось бы, освой эти пару приемов — и от Бродского будет не отличить.
Однако этого мало даже для того, чтобы походить на Бродского.
Перенимая его олимпийский солипсизм, нельзя забывать о том, что он разрешался в творчестве Бродского в ровно противоположных чертах — в весьма разнообразно явленном диалогизме — в тех своеобразных пасах человечеству, которые, по большому счету, оказались этим человечеством услышаны.
Это очень важный момент в предлагаемой здесь трактовке Бродского. О варваре лишь тогда стоит говорить, когда речь идет о варваре, формирующем культуру, — о настоящей свежей крови культуры. Самое страшное для варвара — его докультурная прародина, та голая земля, на которой ему открылась благая весть поэзии. Он на всю жизнь остается варваром потому, что он никогда не забудет этого страха — поскольку инстинкт выживания является самым сильным инстинктом человека. Человек культуры, не-варвар, если уж боится, то самой культуры — отсюда весьма популярные попытки что-либо — а в ряде случаев, вообще все — в ней деконструировать. А для варвара культура — это надежда. Надежда оставить след, быть в любой мере понятым, надежда на то, что удовлетворение первично данного человеку чувства прекрасного само собой формирует в человеке нравственные императивы — а значит, есть надежда и на то, что убивать друг друга станут меньше. Нужно быть в существенной степени варваром для того, чтобы эта надежда могла быть достаточно сильна и потому способна вселять смысл в писание — в сам акт.
…я пишу эти строки, стремясь рукой,
их выводящей почти вслепую,
на секунду опередить «на кой?»,
с оных готовое губ в любую
минуту слететь и поплыть сквозь ночь,
увеличиваясь и проч.
Варвар всегда опережает это «на кой?» — и культура ему за это благодарна.
Стоически переживаемое одиночество у Бродского — исходная точка. Нащупывание адресатов появляется в тот период, когда поэту, наконец, удается поймать ноту своего собственного незатраги-ваемого ходом времени «я», которое поэт в первом своем эссе на английском уподобил раковине. Настоящий, хрестоматийный Бродский начинается со времени, когда поэт стал писать из этой вот раковины письма.
«Оттепель» вообще была кружковым временем. Авторская песня — феномен, возникший на почве этой тяги собираться узким кругом потенциальных друзей ради разговора о главном. Вокруг Бродского не было кружка и сам он в кружки не входил. Когда он с несколькими новыми знакомыми попал в окружение Ахматовой, начались разговоры о том, что вокруг ее фигуры сложился «волшебный хор». Конечно, это в большей степени красивая фраза. Кружок Бродского с середины шестидесятых стал складываться внутри его поэзии, а не за ее пределами.
С конца 1964 года до отъезда Бродского в эмиграцию в 1972-м главным жанром в его творчестве стало послание. Отличие этих посланий от традиционных творений расхожего дружеского жанра — то, что все они — «письма в один конец». Написанные в архангельской деревне послания к старой знакомой «М. Б.» — например, «Северная почта» или «Новые стансы к Августе» — во многом похожи на послания другого рода — «Письмо в бутылке», Einem altem Architekten in Rom.
Я, кажется, пою одной тебе.
Скорее, тут нужда, чем скопидомство.
Хотя сейчас и ты к моей судьбе
не меньше глуховата, чем потомство.
(«Северная почта»)
…И в этой бутылке у Ваших стоп,
свидетельстве скромном, что я утоп,
как астронавт посреди планет,
Вы сыщете то, чего больше нет.
(«Письмо в бутылке»)
Начинается бесконечный разговор с далекими собеседниками — просто знакомой («Прощайте, мадемуазель Вероника»), приятелем («Письма римскому другу»), обобщенным тираном («Письмо генералу Z»), богом («Письмо небожителю»), сыном («Одиссей Телемаку»), самими стихами («К стихам», «Тихотворение мое, мое немое…»), с историческими персонажами («Двадцать сонетов к Марии Стюарт», «На смерть Жукова», «Бюст Тиберия», «Письмо Горацию»), поэтами («Большая элегия Джону Донну», «На смерть Роберта Фроста», «На смерть Т.С. Элиота») и т. д. В этих посланиях не найти ожидания встречи и даже ожидания ответа. Это завещания в ежедневном режиме.
Из раковины своего выключенного из современности «я» Бродскому было ближе до фигур большого времени, чем до людей времени своего. «Не может быть, что ты меня не слышишь!» — заявляет он бюсту Тиберия. Жанром послания поэт формировал свой круг собеседников, свою традицию, продолжателем которой он хотел себя мыслить. Так и получилось: сегодня, произнося имя Бродского, мы тем самым указываем на широкий круг имен вокруг него.
Предсмертное эссе «Письмо Горацию» стало завершающим рефлексивным аккордом — апологией обращения Бродского к человеческому существу через пропасть двух тысяч лет. «…Все, что я написал, технически адресовано вам: тебе лично, равно как и остальным из вас. Ибо когда пишешь стихи, обращаешься в первую очередь не к современникам, не говоря уж о потомках, но к предшественникам. К тем, кто дал тебе язык, к тем, кто дал формы». «Две тысячи лет — чего? По чьему исчислению, Флакк?.. Тетраметры, как я сказал, по-прежнему тетраметры. Они одни могут справиться с любыми тысячелетиями… В конце концов, размеры есть размеры, даже в подземном мире, поскольку они единицы времени… Вот почему их использование больше похоже на общение с такими, как ты, чем с реальностью». Все это — самостоятельное резюме своей поэзии, в которой ощущение общения на «ты» с предшественниками появилось очень рано — не только в чисто технических, но и в жанровых формах. В его поэзии сам собой формируется образ Элизиума — места, в котором диалог между поэтами идет вне зависимости от того, живы ли они в виде земного человека или в виде «газообразной сущности».
Это не только красивый образ — у этого образа есть вполне конкретные воплощения. Разве Бродский не кажется представителем целой поэтической традиции, к которой с его же подачи прилипло определение «метафизическая»? Подача была столь сильной, что заставила многих исследователей заново перечитать историю русской поэзии — дабы вычленить ее метафизический пласт.
В СССР, как известно, была очень сильная переводческая школа, к которой был приобщен и Бродский, однако именно он после эмиграции в 1970–1980 годы воспринимался как главное объединяющее начало между русской и мировой — преимущественно англоязычной — поэзией. Ведь он был еще и прекрасным читателем: для русскоязычной публики Бродский сразу стал одним из самых авторитетных читателей английской поэзии, а для зарубежной аудитории — главным популяризатором и толкователем почти неизвестной поэзии русской.
Восприятие Бродского в качестве фигуры коллективной — не в противовес, а в дополнение абсолютно частному «я» его поэзии — такое восприятие поэта подтверждает и самый факт вручения Нобелевской премии. Эта премия никогда не вручается талантливым или пусть даже гениальным одиночкам. Нобелевский комитет поощряет объединяющие фигуры, которые к моменту выдвижения уже в этом качестве так или иначе признаны. Такому признанию сильно способствовала эссеи-стика Бродского, о которой — несколько отдельных замечаний.