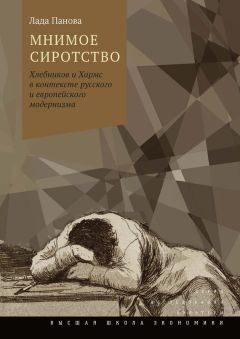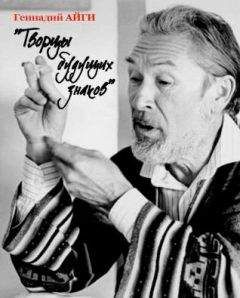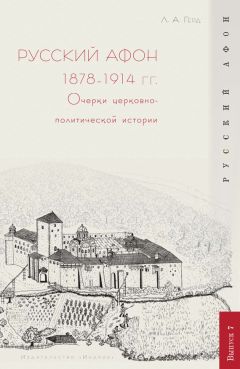Светлана Пискунова - От Пушкина до Пушкинского дома: очерки исторической поэтики русского романа
Он наделен подлинно «кихотическим» типом воображения, о котором М. Ямпольский вспоминает в связи с Гоголем: «Гоголь тут (в "Невском проспекте". – С. П.) разыгрывает ситуацию, которая в литературе Нового времени со всем драматизмом предстала в «Дон Кихоте», где видения обладают напряженной неопределенностью статуса – то ли божественного, то ли демонического. В «Дон Кихоте» герой то не видит реальности, которую заслоняют от него образы его возвышенной фантазии, то видит реальность, но принимает ее за искаженную демонами красоту. Нечто подобное происходит и с Пискаревым…»75. Но претендовать на роль последней повествовательной инстанции в «Петербурге» Автор-2 (как и Автор-1) не может. Равно как ни Дон Кихот, ни Сид Ахмет Бененхели не должны (и не могут) узурпировать власть Сервантеса – создателя романа «Дон Кихот».
Творец романа должен обладать не только «хитроумным» воображением и склонностью создавать «фантазмы», но и «благоразумием» (discreciуn), способностью спонтанно, но и одновременно целеустремленно выстраивать свой художественный космос. Сервантес-творец «Дон Кихота» был в высшей степени наделен авторским самосознанием, умением маневрировать между словом и предметно-телесной реальностью, литературой и жизнью, воображением и воплощением, даром превращать жизнь в литературу и литературу в жизнь. Первый роман Нового времени «Дон Кихот» – не только первый европейский «самосознательный» роман, но и сложно организованный метатект, «роман о романах» и «роман о романе», а «самосознательность» и мета текстуальность – жанровый «канон» всех европейских (в том числе и русских) романов «сервантесовского типа» – творений Филдинга, Смоллета, Стерна, Голдсмита, Дидро, Гёте, Гофмана, Пушкина, Гоголя, Достоевского… (если взять романистов досимволистской поры). И вовсе не «Дар», как то мнится автору глубокого исследования о романе В. Набокова М. Липовецкому76, а «Евгений Онегин» является первым метароманом в русской литературе. Между «Онегиным» и «Даром» – повести и роман-поэма Гоголя, повести и романы Достоевского. А также – «Петербург», где сквозь репрезентативно-миметический план повествования просвечивают другие «тексты», прежде всего текст русской литературы, в свой черед являющейся метатекстом по отношению к петербургскому «мифу», созданному усилиями архитекторов, художников и поэтов XVIII столетия.
Но самосознательность (авторефлексивность) и металитературность – те свойства художественного сознания, которые опять-таки разлагают символическую целостность, расслаивая текст на повествовательные планы, вовлекая читателя в систему двусмысленностей и внутрилитературную, интертекстовую игру, которая никак не может совпадать с теургическим заданием. Потому-то – вспомним еще раз Ханзен-Леве – влияние символистской теории и практики на русский роман оказалось наиболее продуктивным именно в момент выхода символизма за свои пределы (что и составляет, строго говоря, сущность Символизма-3). И уже за хронологическими границами символистской эпохи создаются романы подобные «Дару», в которых символистское жизнетворчество соединяется с акмеизмом и другими системами Письма.
У Белого – создателя «Петербурга» не было и не могло быть прямых последователей77. В произведениях самого Белого после 1916 года нарушается чудом, не без срывов, но все же выдержанный в «Петербурге» баланс трех смысловых перспектив – миметической, аллегорической и собственно символистской. Уже в «Котике Летаеве» резко усиливается аллегорическая составляющая образов-архетипов. «Творчеству жизни» Белый предпочитает наметившийся в финале «Петербурга» путь самопознания, базирующийся на мифопоэтической реконструкции области бессознательного, тут же перелагаемой на условный язык антропософии. Погрузившись в так и не осуществившейся Эпопее «Я» (первым звеном которой и стал «Котик…»), в пучину бессознательного, в «московской» трилогии Белый как бы выныривает на поверхность, становящейся – уже в подтверждение идей М. Ямпольского (неслучайно преимущественно цитирующего Белого второй половины 20-х – начала 30-х годов) – подлинным местом действия и протоделезовским принципом осмысления реальности в романах «Московский чудак», «Москва под ударом» и, в особенности, в «Масках»78.
Десятилетие русской литературы (с середины 10-х до середины 20-х годов), которое можно условно назвать «авангардистским», как известно, оказалось для неклассического, модернистского, да и для традиционного, реалистического русского романа почти провальным. Акмеизм устами О. Мандельштама вынес роману как жанру смертный приговор. Футуристы разрушили смысловую сцепку «мимесис – аллегория», предпочитая работать либо с «фактами», либо с эмблемами-метафорами, которые в принципе тяготеют не к словесному, а к изобразительному ряду (неслучайно исследователи, особенно те, что под «авангардом» имеют в виду прежде всего футуризм, ставят под сомнение не только существование авангардистского романа, но и авангардистской прозы как таковой). Один из двух ставших классикой романов десятилетия – «Мы» Евг. Замятина – является уникальным сочетанием образцового аллегорического жанра – антиутопии и авантюрно-любовного «ромэнс»79.
Немногочисленные выдающиеся образцы прозы первой половины 20-х годов, равно как и возрождающееся повествование второй половины 20-х, также связаны с усилением аллегорического начала, на что обратил, в частности, внимание Х. Гюнтер, призывающий «проследить за феноменом "воскресения аллегории" в постсимволистской культуре…»80.
«Чистый» же, антимиметический и антиаллегорический, отвергающий референцию как таковую, авангард с жанром романа так же трудно совместим, как и символистское Одно. И в этом смысле (как и во многих других) авангард стал продолжателем и завершителем традиций русского символизма. Что же касается символистско-авангардистской идеи «творчества жизни», то, расправившись с обоими, ее адаптировали для своих нужд вожди нового режима81.
Примечания1 См.: Ханзен-Леве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний символизм. СПб.: Академический проект, 1999.
2 Предлагаемая австрийским ученым типология не отменяет, а дополняет восходящее к самим символистам (прежде всего к Вяч. Иванову как автору статьи «Две стихии в современном символизме») противопоставление символистов-идеалистов и символистов-реалистов, то есть символистов «старших» и «младших». Однако Ханзен-Леве делает акцент не на историко-литературном, а на типологическом характере своей классификации, предполагающем сосуществование разных типов символизма во времени, а также в творчестве одного и того же писателя.
3 Ханзен Леве А. Указ. соч. С. 18.
4 Ср. позицию З. Г. Минц, которая, принимая и одновременно уточняя периодизацию А. Ханзен-Леве, включает в Символизм-III, к примеру, творчество раннего М. Кузмина (см.: Минц З. Г. Об эволюции русского символизма // Минц З. Г. Поэтика русского символизма. СПб.: Искусство – СПБ, 2004).
5 См. развернутое примеч. 60 к Введению в книге: Ханзен-Леве А. Мифопоэтический символизм. СПб.: Академический проект, 2003. С. 52 и сл.
6 Описывая фазы нарративизации мифа, Ханзен-Леве следует за исследованием О. М. Фрейденберг «Происхождение наррации», выделившей следующие фазы формирования нарративного дискурса: миф – метафора – наррация как «понятийный миф». «Миф, который довлел самому себе, – писала Фрейденберг, – обратился в объект изображения: его стали воспроизводить как нечто вторичное, созданное субъектной и иллюзорной сферой, и он из достоверной категории превратился в „образ“, в „фикцию“, только лишь подражавшую действительности» (цитир. по: Ханзен-Леве. Указ. соч. С. 55). Но именно таким, нарративно-миметическим, предстает и первозданный миф в известной статье-манифесте Вяч. Иванова «Две стихии в современном символизме» («…миф – отображение реальностей», «…миф есть воспоминание о мистическом событии» – Иванов Вяч. Лик и личины России. Эстетика и литературная теория. М.: Искусство, 1995. С. 127–128). Одновременно Вяч. Иванов отождествляет символ с мифом: «миф уже содержится в символе» (там же, 126), как бы забывая о том, что «истинный символ… изрекает на своем сокровенном… языке… нечто неизглаголемое, неадекватное внешнему слову» (Иванов Вяч. Поэт и чернь // Иванов Вяч. Указ. соч. С. 36). Неискоренимо двойственная и двусмысленная трактовка символа и мифа у Вяч. Иванова отзывается и у Ю. М. Лотмана, именующего символ «геном сюжета» (см.: Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек-текст-семиосфера-история. М.: Языки русской культуры, 1996. С. 115 и сл.), и в известном труде З. Г. Минц, концептуализирующей мифологему (псевдомифологический мотив) как метонимический образ-символ, заключающий в себе «свернутую программу» целостного сюжета» (Минц З. Г. О некоторых неомифологических текстах в творчестве русских символистов // Минц З. Г. Поэтика русского символизма. СПб.: Искусство – СПБ, 2004. С. 70). Отсюда же берет начало и распространенная двусмысленная трактовка символистского романа как «романа-мифа».