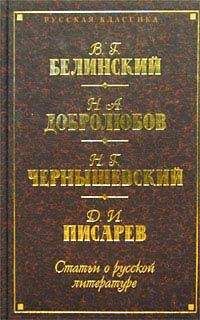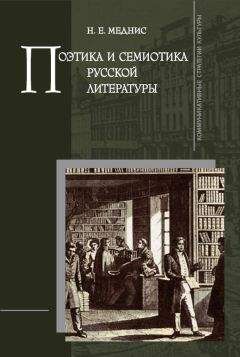Сергей Бочаров - Филологические сюжеты
Несомненно, явление риторического Платона в «Женщине» недаром – и, несомненно, недаром именно во главе этой темы. Но условный Платон «Женщины» – это одно, а глубинное присутствие истинных платонических интуиций в «Невском проспекте» – другое. Имя Платона помянуто у Гоголя также в «Ганце Кюхельгартене» и в более поздней журнальной заметке. Но исследователями в последнее время открыто его растворённое присутствие и в составе главной прозы Гоголя; а в ней Платон отразился не только как умозрительный ум, но и, конечно, как яркий художник. «Поэтому отголоски платоновского влияния логично было бы прослеживать в живой образной структуре гоголевских сочинений».[219] В работах Е. А. Смирновой и М. Вайс—копфа убедительно было вскрыто отражение колесницы душ из «Федра» в чичиковской тройке;[220] в петербургских же повестях платоновское присутствие ещё, кажется, не изучено. Вообще же пути проникновения философской традиции в мир такого автора, как Гоголь, в широте своей неуследимы, при всей доступной информации об источниках; это вопрос из области, которую С. С. Аверинцев в своей давней работе о Софии—Премудрости в киевском храме назвал «высшей математикой гуманитарных наук»:[221] вся традиция за спиной, и она транслируется и усваивается иногда путями уследимыми, а чаще неуследимыми.
Есть известное место у Гоголя, где Платон присутствует на поверхности: это, конечно, «вечная идея будущей шинели», которую в мыслях своих носил Акакий Акакиевич: «…даже он совершенно приучился голодать по вечерам; но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели» (III, 154). В мыслях своих он носит платоновскую идею, – в мыслях своих идею, а ещё не шинель на плечах; на плечах же шинель обнаружит своё предельное свойство недостижимой идеи. Гоголевская выделка фразы не оставляет почти сомнения в её теоретическом происхождении, том самом, за которое Гоголя упрекали, находя его красавиц «теоретичными». Теоретический корень гоголевских образов красоты, во всех пародийно—гротескных их превращениях, в самом деле глубок, и красавица Гоголя в самом деле теоретична, однако не только в том недоверчиво—негативном смысле, в каком его за неё упрекали.
Про героя—философа—любовника—мученика вечной своей идеи далее продолжается: «Он сделался как—то живее, даже твёрже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель». Это значит, что он вступил на путь. Путь, о котором рассказано «языком эроса».[222] Путь не только к недостижимой любви («какая—то приятная подруга жизни»), но и к недостижимой сквозь нее красоте («светлый гость в виде шинели»). Всё это в модусе «как бы», «как будто», подобия – «…как будто бы он женился…» Возрастание же простой физической нужды в идею и в эстетическую потребность проявлено удвоением мотивировки его удовольствия: «В самом деле две выгоды: одно то, что тепло, а другое, что хорошо». Женщина как «бессмертная идея» на пути героя и на пути его автора обернулась «вечной идеей» шинели.
В европейской традиции комментариев на Платона целью стремления, проникающего жизнь человека, названа красота; она же и цель любви.[223] Но разве не та же цель с приближением вечера направляет ускоренные шаги на Невском проспекте? «В это время чувствуется какая—то цель, или лучше что—то похожее на цель» (III, 15). Подобие цели – гоголевская ступенька вниз в платоновской иерархии мира, где здешняя телесная красота есть только подобие красоты самой по себе и о ней напоминание – красоты как идеи, к которой по лестнице подобий восходит наше стремление. Здесь, на Невском проспекте, принцип подобия распространяется и на цель. Распространяется он и на все любовные проявления: «Нет, это фонарь обманчивым светом своим выразил на лице её подобие улыбки…». Но, так или иначе, красота – единое слово и единая цель, какими объединяются устремления художника Пискарёва и поручика Пирогова, уверенного, «что нет красоты, могшей бы ему противиться» (III, 16). Гоголевская омонимия мира, та самая. Можно сказать по—платоновски, что они устремляются по двум линиям фабулы за Афродитой—Уранией и Афродитой—Пандемос, и то, что Урания оборачивается той же Пандемос, не меняет противоречия двух путей по существу, потому что красавица мира всё же реально светится и присутствует в падшем создании, ставшем «странным, двусмысленным существом».[224] Но и все бегущие «заглянуть под шляпку издали завиденной дамы» (III, 15) – один из типичных жестов гоголевского мира – охвачены тем же общим подобием цели в низшем его проявлении.
Подобие цели – свойство мужского мира Невского проспекта, и порождает оно лихорадочное, ускоренное движение – преследование, погоню. Преследование женщины – основное действие на проспекте, но сквозь это пошлое действие и в низких формах его проступает стихийно цель идеальная – погоня за красотой. В специальной статье З. Г. Минц показала размах подхвата темы Гоголя в городской, петербургской лирике Блока. Женщина – «самый сложный, противоречивый и вместе с тем „синтетический“ образ гоголевского и блоковского Петербурга. Роль его огромна. Женщина и есть та единственная цель, которую удаётся обнаружить в страстно—напряжённой динамике городской вечерне—ночной жизни».[225] «Сюжет НП (…) стал просто автобиографической лирикой Блока».[226] Та же ведь незнакомка – так она уже и у Гоголя названа – в той же городской реальности, но уже в символической атмосфере нового века. В знаменитом стихотворении любопытно отметить момент контакта с упомянутым пошлейшим жестом гоголевского мира. …Смотрю за тёмную вуаль, / И вижу берег очарованный / И очарованную даль. Смотреть за вуаль – не то же ли, что заглянуть под шляпку? Но вот такое лирическое преображение пошлого жеста в «пошлость таинственную». Блоковский жест и его эффект, конечно, разительно и чудесно отличны от гоголевского; но по обеим линиям, пошлой и таинственной, близко, интимно с ним соотносятся.
Сюжет погони, погоня за женщиной—красотой возрастанием переходит в полёт. «Молодой человек во фраке и плаще робким и трепетным шагом пошёл в ту сторону, где развевался вдали пёстрый плащ (…) Он не смел и думать о том, чтобы получить какое—нибудь право на внимание улетавшей вдали красавицы (…) Он летел так скоро, что сталкивал беспрестанно с тротуара солидных господ с седыми бакенбардами» (III, 16). На переходе от шага к полёту и является мысль о существе, слетевшем с неба на Невский проспект.[227] Существо слетело, и оно улетает здесь, на проспекте, преследователь летит ему вслед. В платоновском эротическом мифе душа влюблённого окрыляется: «Когда кто—нибудь смотрит на здешнюю красоту, припоминая при этом красоту истинную, он окрыляется, а окрылившись, стремится взлететь…» («Федр», 249d).
Платоновское припоминание в другом месте у Гоголя – это Чичиков перед губернаторской дочкой:[228] «…а Чичиков всё ещё стоял неподвижно на одном и том же месте, как человек, который весело вышел на улицу с тем, чтобы прогуляться, с глазами, расположенными глядеть на всё, и вдруг неподвижно остановился, вспомнив, что он позабыл что—то, и уж тогда глупее ничего не может быть такого человека; вмиг беззаботное выражение слетает с лица его; он силится припомнить, что позабыл он: не платок ли, но платок в кармане; не деньги ли, но деньги тоже в кармане; всё, кажется, при нём, а между тем какой—то неведомый дух шепчет ему в уши, что он позабыл что—то» (VI, 167).
Платоновское припоминание по—гоголевски, по—чичиковски, но ведь это по—чичиковски то самое припоминание. Две динамические реакции гоголевских героев на явление женщины—красоты – полёт художника на проспекте и другая тоже реакция постоянная, даже более постоянная – чичиковская (и других героев): «…остановился как вкопанный…» – о ней надо будет ещё сказать.
У Гоголя интересны контрастные пары произведений, рождавшихся параллельно. Такова римско—петербургская пара «Рим» – «Шинель», чутко выделенная Розановым; в эпоху же «Арабесок» и «Миргорода» малороссийскую параллель петербургскому, понятно, «Невскому проспекту» составил «Вий». Две пары разных гоголевских эпох, соединяющие и по—разному группирующие три главных географически—артистических мира художника Гоголя – малороссийско—петербургская и петербург—ско—римская. А. Д. Синявский чутко тоже сказал о «Вии», что это центральная повесть Гоголя, сердцевина творчества;[229] а Иннокентий Анненский назвал философа Хому Брута «интеллигентом, вышедшим из среды Вакул и Оксан».[230] В одной фразе «Невского проспекта» ситуация петербургской повести метафорически превращается в событие «Вия»: художник не может поверить, «та ли это, которая так околдовала и унесла его на Невском проспекте» (III, 21). По существу происходит то же на проспекте, что и на малороссийском хуторе, хотя по видимости событие перевёрнуто: на проспекте он преследует женщину, там преследуют его. Но за сюжетной инверсией – тождество основного события. Инициативная, активная сила его – красота, и именно женская красота. По существу и женщина – та же гоголевская красавица как в «натуральном», так и в сказочном варианте; и те же в ней взаимопревращения прекрасного в безобразное и обратно, только выведенные в иной сюжетный план, открыто космически—фантастический; символические намёки на участие «адского духа» в участи жертвы Невского проспекта (III, 22) здесь олицетворяются и производят «целую ведьму» (II, 201) – но и за ней реальная женская участь, и к ней протянута «нить от… всякой, по—видимому, нормальной украинки».[231]