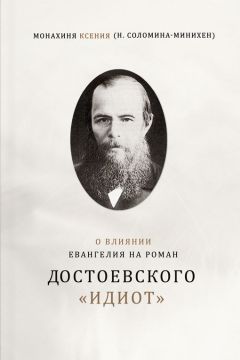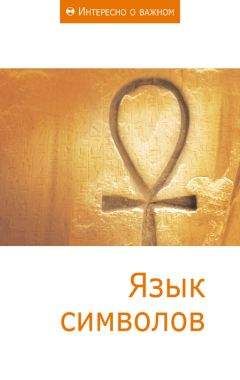Михаил Ямпольский - Пригов. Очерки художественного номинализма
Поэт, как и читатель, всегда искренен в самом себе. Эти стихи взывают к искренности общения, они знаки ситуации искренности со всем пониманием условностей как зоны, так и знаков ее проявления.
Искренность невозможна в литературе потому, что сама литературная форма трансформирует ее в литературную условность. Эта трансформация хорошо видна в романтизме, но и во многих иных кодифицированных жанрах. В сборнике, например, есть такой образец литературной искренности (он значится под порядковым номером 10318, который указывает на чистую серийность его изготовления):
Наша полуберлога и полустрана
Правит ею большой сатана
Кто завидит ее – тот во сне закричит
А при свете дрожит и молчит
Только я не боюсь ее дел и речей
И проклятых ее палачей
Мое сердце
Ликует и разум поет
И надежда сияет и счастье идет
Навстречу
И всякий поймет мой намек непрямой, потому что нельзя писать впрямую, но мы‐то все понимаем, понимаем, о чем речь идет!
Стихотворение, полное мужественного пафоса бесстрашной искренности, прямо в тексте объясняет, что напрямую говорить недозволенно, что искренность дается только в намеках, которые, несомненно, будут поняты читателем. Эта деформация искренности в глухой намек объясняет главную посылку сборника: «Поэт, как и читатель, всегда искренен в самом себе». Именно в себе. Потому что искренность прямо связана с аффектом, с глубоким переживанием, который, однако, в тексте приобретает либо форму умолчания, либо форму пустых клише, как в цитированном стихотворении: «Надежда сияет и счастье идет…» и т. д. Эта деформация аффекта по‐своему связана и с деформацией текста «Онегина», в которой все индивидуальное подменяется бессмысленным эпитетом. В «Новой искренности», кстати, возникает и мотив безумия, который станет центральным для «Онегина». В стихотворении 10420 патетически вопрошается: «Где она Ира, красавица наша?! – В могиле, в могиле, Ира наша! А ты сам‐то кто будешь, юноша? – Господи, она безумна!»
Безумие не просто пустой эпитет – это метаописание функции этого эпитета – бессмысленности, бессвязности текста, который он устанавливает. Но безумие оказывается и важным определением «страсти», аффекта как таковых. Андре Грин убедительно показал, что Фрейд, обнаруживая логику неврозов и психозов, положил конец старой психиатрии, в которой безумие, аффект и страсть играли принципиальную роль. Эту операцию он произвел над истеричками, о которых Грин пишет:
В действительности, эти истерички были не более невротичками, чем психотиками. Они были «безумны»[195].
Пригов, воскрешая эпитет «безумный», выводит свой текст за границу рационально-логической интерпретации, превращая его в чистый театр аффекта, как в театр несомненной искренности, за которой не стоит никакой логики деформаций, вытеснения и т. д.
Один из текстов Пригова, напечатанных в «Полит.ру», назывался «Искренность – вот что нам всего дороже». Здесь речь идет о циничном оправдании любого конформизма искренностью, и здесь вновь, но в иной формулировке возникает мотив искренности, объединяющей людей, правда, в данном случае не читателя и писателя:
К примеру, тому же Робеспьеру искренности было не занимать. Как игривости и цинизму памятному Нерону. Но для их жертв разница была небольшая. Только, разве в том, что жертвы Робеспьера были, в основном, столь же искренни[196].
Истинная сфера искренности лежит в чистых аффектах, выражение же этих аффектов всегда цинично и искажает существо переживаемого в угоду обстоятельствам или литературным стереотипам. Искренность Робеспьера и Нерона заключалась в том, что оба одинаково интенсивно переживали творимое. Но и жертвы испытывали такой же глубокий аффект, тоже были предельно искренни в своих переживаниях. «Содержание» же аффекта, если о таком можно говорить, полностью выводится за скобки.
Зачем в таком случае вообще нужна эта пафосная «искренность» Пригову? Дело в том, что без аффекта, по его мнению, как мне кажется, невозможно производство литературной формы, тем более в том автоматизированном режиме, к которому он стремился.
3Вернемся к онегинскому эксперименту. Мне кажется, что Пригов не случайно выбрал для него в качестве ключа фигуру Лермонтова. Мне представляется, что Лермонтов – одна из центральных фигур приговского художественного проекта. В 1986 году, тогда же, когда он пишет «Новую искренность», Пригов создает несколько чрезвычайно пафосных текстов, в которых возникает фигура Лермонтова. В предуведомлении к одному из них, «Кантате “Дядя и девочка”», Лермонтов – центральная фигура. Приведу этот текст целиком:
Есть звуки – значенье темно и ничтожно – писал гений наш Михаил Юрьевич Лермонтов, опережая другого гения нашего Александра Сергеевича Пушкина – но им без волненья внимать невозможно! невозможно! вы слышите! не-воз-можнооо! – Он гений, гений, Михаил Юрьевич! да возьмите любую строчку – мой дядя самых честных правил – соберем, соберем все значения в точку некую, темную, пусть он там будет, или сольем временно куда – это его законное место, смысла! но как звуки звучат! как звучат! – ой яя аых еых аил! – им внимать без волнения невозможно! Бог мой! Дай силы внимать им! Звукам этим, значенье которых темно и ничтожно![197]
Этот текст явно предвосхищает «Онегина». Лермонтов тут мастер абсолютно бессодержательного и эмоционального слова, чье действие лучше всего видно при его вторжении в Пушкина. Пушкин оперирует смыслами, но он неаффективен. Лермонтов вторгается в текст Пушкина и как бы «собирает» все имеющиеся в пушкинском тексте смыслы «в точку некую, темную», значения «сливаются» в это темное место, и текст, освобождаясь от смысла, приобретает гипертрофированно эмоциональный характер. Кантата демонстрирует такого рода работу над пушкинским «Онегиным», но принцип деформации последнего иной, чем в онегинском эксперименте 1992 года. Приведу пример:
Мой дядя самых честных правил! –
Авил! Авил! Ааа-ввил! А-а-вилл! – откликается голос
Когда не в шутку занемог! –
Уог! Уог! Уооооггг! – снова голос
Лермонтов вторгается в Пушкина эхом, голосом, который, повторяя Пушкина, его десемантизирует. Пригов обосновывает такой метод переписывания Онегина лермонтовской кавказкой темой: «с гор, с вершин блистающих, с времен туда от нас ушедших, смысл туда весь унесших, звуком чистоты и волнующим отзывающихся!» Иными словами, эхо одновременно уносит смысл в горы, но возвращается «звуком чистоты и волнующим». Лермонтов здесь – это просто обозначение романтического горного эха, служащего эмоциональным преобразователем текста. В том же 1985 году в тексте «Двойник» Лермонтов появляется как двойник самого Пригова, хотя и в компании с Пушкиным и Достоевским. Иными словами, он оказывается вообще генерализованным эмоциональным эхо самого поэта. «Двойник» начинается как традиционная романтическая поэма:
О кто ты, мой двойник печальный!
Двойной ль потусторонний свет?
Сосуд ли тот первоначальный?
Ты Пушкин есть ли, или нет?
Двойник – Я нет!
Ты Лермонтов есть или нет?
Двойник – Я нет!
Постепенно двойник признается, что он одновременно является и Пушкиным и Лермонтовым, и Достоевским, и Блоком, и автором самого «Двойника».
Лермонтов, однако, в этом списке занимает совершенно особое место, двойник безо всяких обиняков объявляет себя именно Лермонтовым:
Я твой двойник, двойник печальный!
Я Лермонтов, но я и нет
(Да, да, Лермонтов – кричу я: Лермонтов!
Лермонтов! – бормочу я, распуская, распрядая волосы свои седые: Лермонтов! Сосуд печальный! – пеплом голову посыпая и еле слышно, как пиццикато: Лермонтов, Лермонтов!)
О, я сосуд первоначальный! (Широка-а-а-а-а!)
Я твой твойник, двойник печальный! (Странаа-а-а-а!)
Я Лермонтов певоначальный (Моя-я-я-я-я-я!)
В этот фрагмент опять вмешивается подобие эха – иной голос – на сей раз слова известной песни. Но функция двойничества и эха, десемантизирующего текст, тут полностью сохранена.
Лермонтов возникает на пересечении двух линий. Одна связана с многоголосьем, с которым Пригов экспериментирует в так называемых «стихах для двух голосов». Вторая линия – это связанное с первой экспериментирование с гипертрофированной гротескной эмоциональностью, смысл которой, на мой взгляд, выходит далеко за пределы пародирования всякого рода романтического поэтизма. Пароксизма приговские аффекты достигают, пожалуй, в 1985 году, например в тексте под названием «Силы человеческие неземные» – отмечу между прочим использование эпитета «неземные», который в онегинском опыте будет лермонтовским словом.