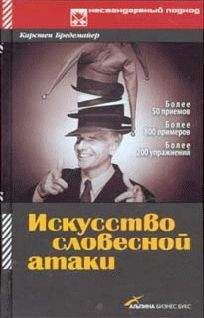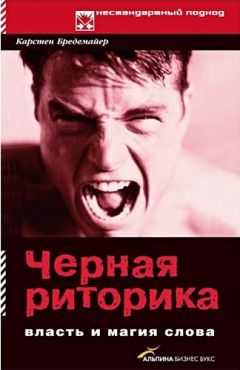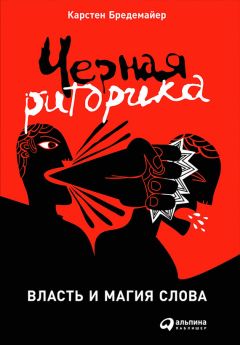Григорий Амелин - Письма о русской поэзии
Было мне приятно, помнится, что надо мной, на верхней койке, никого нет. Раздевшись, я лег навзничь, подложил под затылок руки, – и легкость узкого казенного одеяла была прямо-таки сладостна после пухлости отельных перин. Помечтав кое о чем, – мне о ту пору хотелось писать повесть из жизни вагонных уборщиц, – я выключил свет и очень скоро уснул. И тут разрешите мне употребить прием, частенько встречающийся в таких именно рассказах, каким обещает быть мой. Вот он – этот старый, хорошо вам известный прием. «Среди ночи я внезапно проснулся». Впрочем, дальше следует кое-что посвежее. Я проснулся и увидел ногу.
– Виноват? – переспросил скромный критик, подавшись вперед и подняв указательный палец.
– Я увидел ногу, – повторил писатель. – Отделение было освещено, и поезд стоял на какой-то станции. Нога была мужская, крупная, в грубом пестром носке, продырявленном синеватым ногтем большого пальца. Она плотно стояла на лесенке у самого моего лица, и ее обладатель, скрытый от меня навесом верхней койки, как раз собирался сделать последнее усилие, чтобы взобраться на свою галерку» (2, 480–482).
Нога производит на писателя впечатление самое гнетущее. Особенно тревожит его то, что из всего человека он знал только «недобрую ногу», а ни фигуры, ни лица так и не видел. Человек-нога на верхней полке рыдает. Наутро обладатель фиолетовой ижицы подвязки, скрываясь под одеялом, продолжает оставаться невидимым. Вдруг поезд, подъезжающий к какому-то большому городу, на пустынном полустанке остановлен полицией. Разыскивается человек, который на прошлой станции застрелил жену и любовника. Как было бы великолепно, рассуждает писатель, если бы убийцей оказался его рыдающий сосед, он идеально подходит на эту роль. Но замысел жизни, в котором прихоть грандиозно сочетается с мастерством, стократ великолепнее – сосед ни при чем.
Таким образом, прозаическая нога с ижицей-подвязкой взмывает вверх, тогда как поэтическому ангелу-ижице, спускающемуся на землю, ног как раз и не хватает. Они не встречаются, да и не могут встретиться, но им явно не хватает друг друга. Какие не воссоединившиеся начала обозначаются этими частями тела? И что за новое символическое тело конструирует Набоков?
Английский перевод «Пассажира» был снабжен набоковским пояснением: ««Писатель» в этой истории не автопортрет, а собирательный образ пошловатого писателя. «Критик» же является дружеским шаржем коллеги-эмигранта Юлия Айхенвальда… известного литературного критика. Читатели прежних времен узнавали его точные, изящные маленькие жесты и увлечение игрой благозвучно спаренными фразами в литературных комментариях. К концу рассказа все, кажется, уже забывают об обгоревшей спичке в рюмке – то, что сегодня я ни в коем случае не позволил бы» (2, 720). Действительно, рассказ закольцован упоминанием мелкой детали: в самом начале писатель рассеянно бросает обгоревшую спичку в рюмку критика, а в конце не менее забывчиво предлагает налить туда выпивки. Пустяками, мелкими деталями повествования («…Не есть ли всякий писатель именно человек, волнующийся по пустякам?» (2, 482)) оказывается именно игра «спаренных фраз», о которых через сорок лет говорит сам Набоков. Рассказ металитературен. Все строится по принципу матрешки. Автор (Набоков) пишет рассказ «Пассажир», в котором герой-писатель в вагоне поезда делится с критиком-собеседником идеей рассказа, в котором его сосед по железнодорожному вагону окажется убийцей, пойманным в конце концов полицией. Но в этом придуманном рассказе есть еще одна матрешка – жизнь сама расколдовывает идею писателя-героя, не обнаруживая в плачущем соседе убийцу жены и ее любовника. Видимая невооруженным взглядом фабульная составляющая неприкрыто указует на прозу Толстого, а текстурный узор выполнен по поэтической канве пастернаковского стихотворного текста «Город», который в свою очередь расшит на толстовских пяльцах.
Один пример. Писатель мечтает написать повесть из жизни вагонных уборщиц. Этот прихотливый замысел – пастернаковского происхождения. Бредящая героиня Пастернака возникает из везуевого пепла, засыпавшего древний город. Она – Золушка, Попелюшка, Сандрильона, бедная уборщица всех зол, везеньем, случаем и волнительным пустяком производимая в принцессы. Набоков просто-напросто переводит этот излюбленный пастернаковский образ на язык железнодорожной прозы и загадочного замысла своего героя. Пастернак же, превращая зло в золу, а Анну Каренину – в Сандрильону, спасает ее от погибели.[144] Золушка нарождается, как бабочка, из железнодорожного вокзала: «И в пепле, как mortuum caput, / Ширяет крылами вокзал» (I, 433). «Mortuum caput» – бабочка «мертвая голова», но это и кардинальное понятие алхимии – пепел, остающийся в тигле продукт химических реакций, в переносном смысле – нечто, лишенное живого содержания. Но у Пастернака – возвращаемое к жизни вновь (он, как Амфион, получивший от Аполлона волшебную лиру, под звуки которой сами собой воздвигаются разрушенные стены Фив). Экспресс – поезд идущий с повышенной скоростью, происходит от латинского слова expressus (exprimere), обозначающего «выжимать». Экспресс – и образ, и принцип организации прозаического материала: «Вот точно так же и темы жизни мы меняем по-своему, стремясь к какой-то условной гармонии, к художественной сжатости» (2, 481). Слово, как нога на педали, и здесь один императив: «Жми!» Определяя метафору как скоропись духа, Пастернак говорил именно об этом уплотнении и прессе образов поэтического бытия, их курьерской аббревиатуре, когда в стиле важен, по словам Пруста, «прежде всего какой-то драгоценный и истинный элемент, скрытый в сердце каждой вещи и извлеченный (экстрактом добытый, выжатый. – Г. А., В. М.) оттуда гением великого писателя» [avant tout quelque élément précieux et vrai, caché au coeur de chaque chose, puis extrait d’elle par ce grand écrivain grâce à son génie].[145] Мандельштам развернул эту идею в «Разговоре о Данте»: «У Данта не одна форма, но множество форм. Они выжимаются одна из другой и только условно могут быть вписаны одна в другую. Он сам говорит: Io premerei di mio concetto il suco – (Inf., XXXII, 4) «Я выжал бы сок из моего представления, из моей концепции», – то есть форма ему представляется выжимкой, а не оболочкой.
Таким образом, как это ни странно, форма выжимается из содержания-концепции, которое ее как бы облекает. Такова четкая дантовская мысль.
Но выжать что бы то ни было можно только из влажной губки или тряпки. Как бы мы жгутом ни закручивали концепцию, мы не выдавим из нее никакой формы, если она сама по себе уже не есть форма. Другими словами, всякое формообразование в поэзии предполагает ряды, периоды или циклы формозвучаний совершенно так же, как и отдельно произносимая смысловая единица» (III, 227).[146]
Экспресс – экстазирующее и формообразующее начало. Это возможность соединить разделенные точки, ужать расстояния, создавая тесноту синтагматического ряда, но одновременно – и жатва, собирание разбегающихся и разделенных пространств в цельные фигуры и снопы метафор,[147] чтобы, по словам Некрасова, – словам было тесно, а мыслям – просторно. Но экспресс – это и пресс, печать, запечатанность, запечатленность.[148] Предельное сжатие ждет и само слово. Слово – и речь в целом, речение, и отдельная единица этого целого. Оно – запекшийся смысл, сгусток энергии, существенный настой и жизненный отвар.
Отдавая сжатость, казалось бы, всецело на откуп пошловатому писателю, Набоков на деле не расстается с ней: «Однажды, когда трезвомыслящий, но несколько поверхностный французский философ попросил глубокомысленного, но темного немецкого философа Гегеля изложить свою мысль сжато, Гегель отрезал: «Такие предметы нельзя изложить ни сжато, ни по-французски»».[149] Мысль, как зверь, покойно укладывается в родную берлогу языка, она сама держит пропорции языкового универсума. Это вынуждало Толстого к известному отказу от пересказа «Анны Карениной». Дело не в том, говорит Набоков, что надо литературу удлинять или жизнь укорачивать, речь сама полагает внутреннюю меру своего развития. Метафора не может быть короче или длиннее, она – то, что нужно. А ее, так сказать, пизанский наклон в языковой плоскости сравнения, эпитетного положения, развернутого описания и так далее – по закону развертывания речи, а не сторонней авторской прихоти. Или апухтинским словом:
Твои за жизнь напрасны страхи;
Пускайся крепче и бодрей,
То развернись, как амфибрахий,
То вдруг сожмися, как хорей.[150]
Мы не доискиваемся, спорит или соглашается в 1927 году Набоков с Пастернаком. Тем более что его персонаж – лицо самостоятельное. К тому же, отстаивая примат жизни перед литературой (опять же – как эстетического принципа), писатель соглашается с противоположным мнением критика: «Слову дано высокое право из случайности создавать необычайность, необычное делать случайным». Всю жизнь Набоков будет использовать, всячески преобразуя пастернаковские «обороты, эпитеты, дикцию, стереоскопичность» (2, 760), проявляя свойственную им обоим словесную находчивость. «Окрыленный клоун, или ангел, притворившийся турманом», – сказано о Себастьяне Найте набоковскими словами о самом себе. Ангел здесь – не религиозное существо, а литературная тварь. Серная спичка в рюмке – знак застольного разговора, а вытащена она из того же спичечного коробка – «коробки с красным померанцем», – каморки, где ютится поэзия.