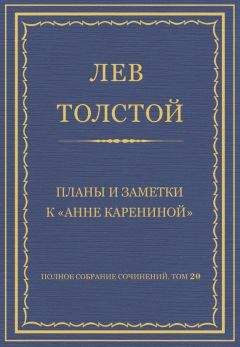Василий Розанов - О писательстве и писателях. Собрание сочинений [4]
Но я могу читать и вот вижу, что первая строка «Книги Бытия»: «борейшись бара Элогим», «вначале сотворил Бог» имеет сказуемое в единственном числе, а подлежащее — к преткновению всех ученых — не в единственном, а во множественном числе (единственное число Елоах, аравийское — Аллах). Каким образом это может быть и как же тогда перевести это место? Да ведь, очевидно, не было никакого основания для Соловьева думать, что к его исключительному и личному удовольствию есть только «розовая тень», может быть около нее есть «грозная тень»; и если есть «Царица Шабас», то есть и «Адонай» — уже в единственном числе. Речи-то пророков ведь все льются в двух тонах: страшных угроз и нежнейшего утешения, как бы один голос слышится из-за другого, и из-за второго опять выступает первый, сплетясь, как два вервия в одно. Загадкою филологическою разрешается загадка метафизическая: «бара Элогим» очевидно и нужно перевести «сотворила Чета» (мистическая «Двоица» Пифагора). Да и понятно это. Если пол — тайна, непостижимость (мнение Страхова), имеет свое «здесь» и свое «там», то как здесь есть мужское начало и женское, то и «там», в структуре звезд что ли, в строении света, в эфире, магнетизме, в электричестве, есть «мужественное», «храброе», «воинственное», «грозное», «сильное» и есть «жалостливое», «нежное», «ласкающее», «милое», «сострадательное». Тогда опять выражение Библии о человеке: «по образу нашему сотворим человека, мужчину и женщину, сотворим его» — понятно же.
Вот мы и подошли совсем к теме «Демона». Мы сделали ее уже совершенно понятной, нашей, близкой, родной. Но я скажу более: мы сделали ее научной; просто — научной как арифметика. «Демон» вовсе не фантазия, а самая реальная «быль», со мной не бывшая, но вот с Соловьевым бывшая, и только с Лермонтовым бывшая в платье другого покроя, не в тунике, а в тоге, не с нежною улыбкой, а с грозящим пальцем.
IIДревних греческих философов, до Сократа, историки назвали «физиологами», хотя они не рассекали трупов и едва ли что знали из нашей науки физиологии. Такое имя им дали по характеру и по теме их размышления. Вот таким не физиологомогом-мудрецом, но физиологом-поэтом, в древнем и особенном смысле, был Лермонтов:
О грезах юности томим воспоминаньем
С отрадой тайною и тайным содроганьем,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю.
О, если б знало ты, как я тебя люблю.
Как милы мне твои улыбки молодые
И быстрые глаза, и кудри золотые,
И звонкий голосок…[79]
Это совсем другой состав слов и движение души, чем у Пушкина:
Младенца ль милого ласкаю
Уже я думаю: «прости»…[80]
Пушкин чувствует младенца, если можно так выразиться, идиллически, картинно, Лермонтов — физиологически. Последнее — гораздо глубже, и слово «с содроганием» (смотрю) — тут не обмолвка. Это — взгляд отца, взгляд — матери, любовь — не скользящая по предмету художественным лучом, а падающая на предмет вертикально, как луч полуденного солнца, пронзающая предмет, сжигающая предмет. И такие вертикальные лучи, негодования ли, любви ли, палящие, знойные, действующие, ударяющие — везде у Лермонтова; в противоположность горизонтальным лучам, художественно успокоенным, у Пушкина. От этого действие их на душу глубоко, быстро, смущающе: без всякого преувеличения, слезы навертываются при чтении его строк, или сердцем овладевает восторг, победа: «веди нас, вождь наш», хочется сказать поэту. И его чувство о себе, о поэте:
Бывало, мирный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы.
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.
Твой стих, как Божий дух, носился над толпой…[81]
Это не преувеличение, а правда. Из-под уланского мундира всегда у Лермонтова высовывается шкура Немейского льва, одевающая плечи Геркулеса. Древний он поэт, старый он поэт. И сложение стиха у него, и думы его, и весь он — тысячелетнего возраста. Точно он был и плакал при творении мира, когда «и сказал Бог — да будет свет, и стал вечер, и стало утро — день первый». Он все это запомнил, и вот этою давнею любовью, дедовскою, родною, лешею, «ангельскою» ли, «демоническою» ли (как хотите, по выбору) полна его поэзия.
«Антропоморфизм» религии… смешно читать в исторических книгах издевательства над этою древнею верой. Как будто, имея понятие о себе, как «образе и подобии Божием», мы исповедуем что-нибудь иное.
Какова фотография, таков и оригинал. Нет, из «антропоморфизма» не только не нужно, но и невозможно вырваться, и «розовые тени» (Соловьев) в неизъяснимых глубинах неба, как и «грозящие пальцы» в них же — не одна фантазия. У Лермонтова, кроме физиологии, есть романтизм природы; или, точнее потому-то его физиология и есть мистическая, что — она собственно везде разлагается на игру «розовой» и «грозной тени», «туники» и «плаща», везде — тучка и утес, везде — тоска разлуки или ожидание свидания, везде — роман, везде — начало жизни, и небесной и земной, в слиянии.
По небу полуночи Ангел летел.
· · · · · · · · · · · · · · · ·
Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез…
Вот, что видит Лермонтов за начальным мигом человеческого существования, позади первого детского на земле вздоха, крика. Это — миф сзади физиологии, священный миф, в этом и мы ему не откажем. Все — антропоморфично в небе, все богообразно — на земле. Все — чудище, лес дриад, в котором запутался бедный странник, человек.
И звуков тех слов заменить не могли
Ей скучные песни земли.[82]
Геродот, когда в своих странствованиях дошел до Вавилона, то жрецы, т. е. певцы и поэты народа, показали ему древнейший в городе храм, который он описывает. «Это — четырехугольник, каждая сторона которого имеет две стадии. Уцелел он до моего времени (конец «Золотого сна»). Посередине храма стоит массивная башня, имеющая по одной стадии в длину и ширину; над этой башней поставлена другая, над второй третья и так дальше до восьмой. Подъем на них сделан снаружи; он идет кольцом вокруг всех башен. Поднявшись до середины подъема, находишь место для отдыха со скамейками; восходящие на башни садятся здесь отдохнуть. На последней башне есть большой храм, а в храме стоит большое прекрасно убранное ложе и перед ним золотой стол. Никакого кумира в храме, однако, нет. Провести ночь в храме никому не дозволяется, за исключением одной только туземки, которую выбирает себе божество из числа всех женщин. Так рассказывают халдеи, жрецы этого божества» (Первая книга, гл. 181). Ну, и что же дальше?
Лишь только мир волшебным словом
Завороженный — замолчит;
Лишь только ветер над скалою
Увядшей шевельнет травою,
И птичка, спрятанная в ней,
Порхнет во мраке веселей;
И под лозою виноградной,
Росу небес глотая жадно[83],
Цветок распустится ночной;
Лишь только месяц золотой
Из-за горы тихонько встанет
И на тебя украдкой взглянет —
К тебе я стану прилетать,
Гостить я буду до денницы,
И на шелковые ресницы
Сны — золотые навевать.[84]
«Халдеи же говорят, — оканчивает Геродот, — чему, однако, я не верю, будто божество само посещает храм и почивает на ложе; нечто подобное таким же способом совершается в египетских Фивах, по словам египтян; и там будто бы ложится спать в храм женщина в храме Зевса Фивского, как здесь — в храме Зевса — Бела, причем ни вавилонянка, ни фивянка не имеют, говорят, вовсе сношений с мужчинами. Подобно этому в Ликии, в Патарах, прорицательница, — если только она бывает, ибо оракул там не постоянный, — запирается по ночам в храме».
Вот общее, и без взаимного, конечно, соглашения — в Египте, Вавилоне, Греции азиатской. Очевидно, везде был вопрос: «что Богу понести самого чудесного…», нет, иначе, другими словами: «на высоту, ближе к звездам, в восьмой ярус, к первому дню творения, с чем я пойду чудодейственным, непостижимым, меня радующим, меня возвышающим в героя, чистым, развязывающим узы греха?» И везде инстинктивно ответили: «пойду с чудом любви, с таинственною магией влюбленности, которую никогда-то никто не умел постичь, и все перед ней плакали, умилялись на нее, от Тургенева до Шекспира.
О, ночь блаженства!
И радости! Подумать страшно мне,
Не грезой ли ночной я очарован!
Все то, что испытал я, слишком нежно,
Чтоб быть действительным.
Джульета
Еще два слова
Ромео, милый мой, а там — простимся
С тобой совсем! Когда любовь твоя
Честна и благородна, и коль скоро
Ее ты завершить намерен браком,
Пришли сказать мне завтра с тем, кого
Пришлю к тебе сама я, день и час,
Который ты назначишь для венчанья.
Себя и все свое с минуты этой
Отдам тебе во власть я и пойду
Вслед за тобой, хотя б на край вселенной…[85]
Конечно — узы греха развязаны. Это такая чистота, такая невинность, с которой куда же и бежать, как не в точку нажима религиозного чувства, в «священную рощу», на восьмую башню — на Ефрате, или, как поступили Веронские несчастливцы — в падре Лоренцо. Но куда-то вообще в «алтарь» или «к алтарю» священного места. Всемирный инстинкт, всемирно человеческий, на чем собственно, а не на каких-нибудь приказаниях, держится доселе, в своих остатках брак, «венчанный», «коронованный», с глазами, обращенными к небу. Но что же чувствует вавилонская, фиванская или патарская девушка?