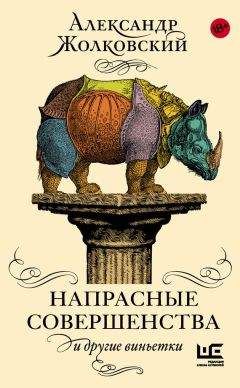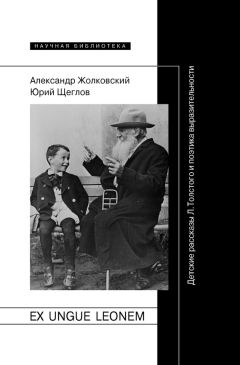Александр Лукьянов - Был ли Пушкин Дон Жуаном?
Прекрасное время пролетело быстро, и наступили серые будни ссылки. Поэт с неподдельным чувством вспоминал свои первые шаги в светском Петербурге, неудавшуюся любовь, столичный блеск, который ему всегда нравился. При этом, отмечает Горчаков, яркую улыбку сменяла грустная дума. Прежнее бретерство, вспыльчивость, и публичное озорство вернулись к поэту. Обритый после болезни, он носил молдаванскую феску и какой-то немыслимый фрак. По-прежнему был умен, ветрен, насмешлив. «В этом расположении Пушкин отошел от нас, и, пробираясь между стульев, со всею ловкостью и изысканною вежливостью светского человека, остановился перед какой-то дамою; я невольно следил за ним и не мог не заметить, что мрачность его исчезла, ее сменил звонкий смех, соединенный с непрерывной речью. Пушкин беспрерывно краснел и смеялся: прекрасные его зубы выказывались во всем своем блеске, улыбка не угасала».
Однако, быстро устав от провинциального Кишинева, в ноябре 1820 года Пушкин поехал погостить в Каменку – имение, принадлежащее сводным братьям генерала Н. Н. Раевского – Давыдовым. В Каменке (Киевская губерния) было два мира, разделенные, по выражению поэта, темами «аристократических обедов и демагогических споров». Первый кружок был представлен тучным и пожилым генералом в отставке Александром Львовичем Давыдовым, которого Пушкин назвал «толстым Аристиппом». В своих заметках «Table talk» поэт изобразил его «вторым Фальстафом» – «сластолюбив, трус, хвастлив, не глуп, забавен, без всяких правил, слезлив, и толст».
Полную противоположность этому миру представлял круг младшего брата – Василия. Он только что вышел в отставку, чтобы всецело заняться политической деятельностью. Сюда, кроме Михаила Орлова, приезжали известные декабристы – Якушкин и Николай Раевский – младший. Каменка была одним из центров Южного общества. Пушкин вращался в обоих кругах. С юным задором он принимал участие в оппозиционных свободолюбивых беседах членов тайного общества, хотя сам не был им и даже не подозревал о его существовании. Декабристы не торопились посвящать поэта в свои планы. Слишком ветреным и легкомысленным он им казался. Вот что писал Пушкин поэту Гнедичу 4 декабря 1820 года из Каменки: «Общество наше… разнообразная смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя. Женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, много стихов». И хоть женщин в Каменке действительно было немного, Пушкин нашел наконец-то новый объект для реализации своей сексуальной агрессии.
Круг старшего брата – своего тезки – поэт посещал с особым желанием. Жена этого русского «Фальстафа», Аглая Антоновна Давыдова, была дочерью герцога де Граммона – французского эмигранта-роялиста. Таким образом, в жилах ее текла кровь знаменитого волокиты и самого блестящего кавалера эпохи Людовика XVI, графа де Граммона. Как отмечал П. К. Губер, Аглая Антоновна не изменила традициям галантности, связанным с именем ее предка. Ее дальний родственник, один из Давыдовых, сын известного партизана Дениса Давыдова, рассказывал, что она «весьма хорошенькая, ветреная и кокетливая, как настоящая француженка, искала в шуме развлечений средства не умереть от скуки в варварской России. Она в Каменке была магнитом, привлекавшим к себе железных деятелей александровского времени; от главнокомандующих до корнетов все жило и ликовало в Каменке, но – главное – умирало у ног прелестной Аглаи».
Чрезмерная доступность, сделавшая ее и ее злополучного супруга настоящей притчей во языцех, вызвала со стороны Пушкина ряд едких эпиграмм.
Иной имел мою Аглаю
За свой мундир и черный ус,
Другой за деньги – понимаю,
Другой за то, что был француз.
Клеон – умом ее стращая,
Дамис – за то, что нежно пел.
Скажи теперь, мой друг Аглая,
За что твой муж тебя имел?
Несмотря на это, поэт увлекся ветреной француженкой. Вряд ли она вызвала у него сильные чувства. Об их связи, о развитии их отношений прекрасно рассказал сам поэт в стихотворении «Кокетке».
Послушайте: вам тридцать лет,
Да, тридцать лет – не многим боле.
Мне за двадцать, я видел свет,
Кружился долго в нем в неволе;
Уж клятвы, слезы мне смешны;
Проказы утомить успели;
Вам также с вашей стороны
Измены, верно, надоели;
Остепенясь, мы охладели,
Некстати нам учиться вновь.
Мы знаем: вечная любовь
Живет едва ли три недели.
Сначала были мы друзья,
Но скука, случай муж ревнивый…
Безумным притворился я,
И притворились вы стыдливой,
Мы поклялись… потом… увы!
Потом забыли клятву нашу;
Себе гусара взяли вы,
А я наперсницу Наташу.
Мужа ее Пушкин назвал как-то в «Евгении Онегине» «рогоносцем величавым», самолично принимая участие в украшении его головы ветвистым подарком. После кратковременной близости отношения Аглаи Антоновны и Пушкина стали несколько натянутыми и холодными: видимо, она надоела ищущему новых чувств поэту. Недаром он писал в том же стихотворении:
Когда мы клонимся к закату,
Оставим юный пыл страстей —
Я своему меньшому брату.
Адель Давыдова.
Старшую дочь Аглаи Давыдовны звали Адель. Ей Пушкин посвятил стихотворение «Играй, Адель…» В эту премиленькую девочку лет двенадцати Пушкин то ли влюбился, то ли притворился, что влюбился. Постоянно на нее заглядывал, шутил с ней довольно неловко. Декабрист Якушкин вспоминает один эпизод: «Однажды за обедом он (т. е. Пушкин) сидел возле меня и, раскрасневшись, смотрел так ужасно на хорошенькую девочку, что она, бледнея, не знала, что делать, и готова была заплакать; мне стало ее жалко, и я сказал Пушкину вполголоса: “Посмотрите, что вы делаете; вашими нескромными взглядами вы совершенно замучили бедное дитя”. – “Я хочу наказать кокетку, – отвечал он, – прежде она со мной любезничала, а теперь прикидывается жестокой и не хочет взглянуть на меня”».
Некоторые современные интерпретаторы Пушкина, вроде А. Мадорского, видят в поэте «заурядного соблазнителя малолетней» и создателя прообраза набоковской Лолиты. Не стоит навешивать на поэта эти психические отклонения. Пушкин был нормальным мужчиной, любителем вполне созревших девушек и женщин. Стихотворение «Адель», как отмечает Нина Забабурова, можно читать как пожелание и пророчество: (Для наслажденья / Ты рождена). Но это был тот редкий случай, когда Пушкин оказался плохим пророком. А. О. Смирнова-Россет в 1830-е годы встретилась в Париже после многих лет с сестрой Адели, Екатериной Александровной Давыдовой (1806–1882), в замужестве маркизой де Габрияк, и тут же спросила ее об Адели, потому что на память ей пришло прелестное стихотворение Пушкина. От нее она узнала, что Адель постриглась в монахини в Риме, в монастыре Тринита дель Монте.
И все-таки, как верно изобразил себя юный поэт в стихотворении «Мой портрет», написанном на французском языке:
Сущий бес в проказах,
Сущая обезьяна лицом,
Много, слишком много ветрености —
Да, таков Пушкин.
Аглая Антоновна не могла простить поэту этого публичного осмеяния их кратковременной связи. С этого времени Пушкин стал более жесток к женщинам, с которыми вступал в связь. Он старался их публично унизить, цинично описать или их любовные отношения, или их внешность. Он постоянно похабничал над ними, как бы нарочно втирая в грязь. Анатолий Мадорский называет такое поведение поэта «сатанинским зигзагом». Мол, бес вселился в поэта. Нечистая сила тут ни при чем. Поэт был невротиком, поэтому он постоянно искал для секса женщин, которых не надо было любить. Мало того, чувственность поэта могла получать наибольшее удовлетворение только при психологическом унижении женщины. Только в этом случае он получал наибольшее сексуальное удовлетворение.
Встреча и любовная связь с распутной Аглаей Антоновной, умершей от сифилиса, стал ключевым моментом в изменении отношения поэта к женщине. Фактически это была первая связь с замужней женщиной из высшего света. До этого сексуальная жизнь поэта проходила в публичных домах и за кулисами театров. Впервые Пушкин встретил женщину, полностью удовлетворяющую его сексуальную потребность как шлюха из борделя, но таковой не являющейся. Причем в дальнейшем мы увидим, что все женщины, которые вызывали у поэта сексуальное желание, были в чем-то похожи на Аглаю Антоновну.
У Пушкина, как у ярко выраженного истерика, сформировался некий «эротический» устойчивый идеал женщины, в отличие от такого же «романтического» идеала. Этот «эротический» идеал прекрасно описал Фрейд: «В нормальной любовной жизни ценность женщины определяется ее непорочностью и понижается с приближением к разряду проститутки. Поэтому странным отклонением от нормального кажется то обстоятельство, что влюбленные нашего типа относятся к женщинам именно такого разряда как к наиболее ценным объектам любви. Любовным связям с этими женщинами они отдаются всеми силами своей души, со страстью, поглощающей все другие интересы жизни. Они и могут любить только таких женщин и всякий раз предъявляют к себе требование неизменной верности, как бы часто ни нарушали ее в действительности. В этих чертах описываемых любовных отношений чрезвычайно ясно выражен навязчивый характер этих отношений, свойственных в известной степени всякому состоянию влюбленности. Не следует, однако, полагать, на основании этой верности и силы привязанности, что одна единственная такая любовная связь заполняет всю жизнь таких людей, или она бывает только один раз в жизни. Наоборот, страстные увлечения такого рода повторяются с теми же особенностями много раз в жизни лиц такого типа как точная копия предыдущей. Больше того, в зависимости от внешних условий, например, перемены места жительства и среды, любовные объекты могут так часто сменять один другой, что из них образуется длинный ряд».