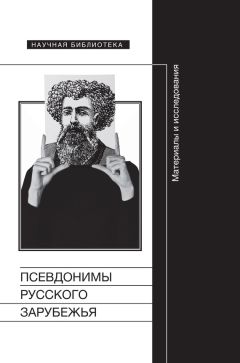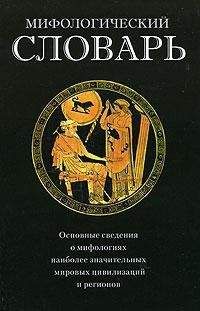Людмила Зубова - Языки современной поэзии
Для понимания всего текста важно, что автор объясняет косноязычие попыткой своего существования в разных языковых пространствах; ср. также: так в моем санскрите текста. Он говорит с вороном «на птичьем языке» — это выражение обозначает язык непонятный и часто звучит в упрек поэтам, чьи стихи непросты для восприятия. Поэтому, возможно, что птиц (в последней из процитированных строф — птиц-заика) — это и есть слово «птичьего языка».
Название древнего индоевропейского языка санскрит означает ‘обработанный, сделанный’. В таком случае слова в моем санскрите текста можно понимать и как ‘в языке совершенном’. Возможно, значение сделанности, совершенности формы поддерживается и словом дикция, которому возвращается первоначальное значение, отсылающее к языку, речи, но еще и связанное с оформленностью этой речи[166].
Ко всему сказанному можно добавить, что слово, теряющее звук, можно понимать как передразнивание английского произношения слова Nevermore (вспомним строку «Никогда!» — ответил птиц мне… Дикция-то! — радьо-песне!). А в русском языке звук из слова вóрон исчезает, когда образуется традиционно-поэтическое слово вран с неполногласием, что тоже может быть значимо для толкования формы птиц.
В стихотворении «У ворот (лубок)» из книги «Хутор потерянный» появляется слово любовницо:
У ворот еще и ель
ветви — в щеточках зубных
(прилетает на хвою
птица Хлоя в «ноль» часов
чистит зубы — все целы!
Хлоя — людоед).
Щеточки — в крови.
У ворот
(вот-вот!)
о овца, как офицер
(пьяница, одеколон!)
с мордой
смотрит:
во дворе лежит бревно, — как попало, голышом…
ЧЬЕ ОНО ЛЮБОВНИЦО?[167]
Таким искажением Соснора создает резкое противоречие между формой среднего рода и значением слова любовница. Но этот грамматический сдвиг осуществлен в метафоре, причем субъектом антропоморфной метафоры оказалось бревно. Здесь грамматическая и лексическая метафоры противоположны по своим направлениям: лексическая метафора одушевляет предмет, а грамматическая обозначает человека как предмет.
Нарушая все логические связи между грамматическими и лексическими свойствами исходных слов, Соснора устанавливает другую логику — логику контекста.
В этом случае первостепенное значение имеет, вероятно, фразеологическая производность и слóва любовницо, и фразы во дворе лежит бревно, — как попало, голышом — от поговорки лежит как бревно (о таком поведении женщины в постели, которое делает ее как бы бесполой). Содержание этого фрагмента определено поговоркой смотрит как баран на новые ворота. Взгляд овцы в стихотворении похож на мутный взгляд пьяницы-офицера (отметим созвучия в словах овца и офицер). Вопрос чье оно любовницо? похож на перевод вопроса *кому оно принадлежит? с языка овцы на язык пьяного офицера, сексуально озабоченного и не способного нормально связывать слова.
Между тем эта лубочная картинка на самом деле гораздо страшнее, чем представляется ее персонажам. Эти ворота — на тот свет, овца — должно быть, жертва, идущая на заклание, а бревно — труп, возможно, чьей-то любовницы. На такое толкование указывает образный ряд предыдущей строфы. И тогда средний род слова любовницо оказывается связанным не только с неполноценной жизнью, но и со смертью. Обозначая средним родом живое, автор перемещает его в сферу небытия.
Смысловое уплотнение речи получается и при образовании авторских эпитетов:
И я один. В моей груди
звучат цыганские молитвы.
Да семиструнные дожди
Дрожат за окнами моими.
Мне не войти в Ковчег чернооких мускулатур,
ни к чему им бурнодышащий гребец в стакане,
им нужен вязальщик плотов, доильщик коз
и землекоп, чтоб рыть для них лопатой.
В первом их этих примеров метафора, объединяющая мир природы с миром музыки, образована не только на основе зрительного и звукового сходства реалий, но и на основе фонетического сходства слов струя — струна. Во втором примере алогизм сочетания прилагательного с определяемым словом обнаруживает логику на основе метонимии: мускулатура как обозначение мускулистого человека (ср. разг.: пришли какие-то лбы; в семье появился лишний рот; этот парень — голова).
Среди эпитетов встречается много двухкорневых неологизмов, которые, заменяя собой описательные обороты, демонстрируют большую степень компрессии высказывания:
Руины ширятся с ногтей,
солдаты падают в строю,
и в руконогой быстроте
один стою я и — смотрю.
кинжалы ломаю,
пальцы текут, липкокровны,
кинжалы все ниже,
нет, не проснусь, не прояснюсь,
кинжалы ломаю, их нету,
кинжалов,
кинжалы у сердца, четыре,
нет, не вонзайте, нет,
не бейте, и будут, и стали
всеми четырьмя, сердце стало,
сердце ломают.
Смысловая компрессия эпитета в следующем фрагменте создается цитатным подтекстом:
Здесь я чужой среди домов и плит,
поставленных с окнами вертикально,
и не течет по морю черный плот,
и запах вин как золото литое.
И запах роз душицы и мелисс
как говорится в этом Доме Жизни,
где тени с лестниц ходят как моря,
и звуковые груди юных женщин.
О бедный бредный Мир из клаузул,
мне нужен чек на выходы с судьбою,
а я лечу как вынутый кинжал,
в давным-давно покончивший с собою.
Странный эпитет в строке и звуковые груди юных женщин мотивируется, вероятно, отсылкой к «Поэме Воздуха» Цветаевой: О, как воздух гудок / <…> / Рыдью, медью, гудью, / Вьюго-Богослова / Гудью — точно грудью / Певчей — небосвода / Нёбом или лоном / Лиро-черепахи?[174]. Обратим внимание на то, что и эротическая образность[175] строк Виктора Сосноры находит свое подкрепление в словах Цветаевой Нёбом или лоном / Лиро-черепахи? Необходимо иметь в виду, что эротика в метафорических системах и Сосноры и Цветаевой тесно связана с мотивом порождения поэтического слова, так что сочетание звуковые груди юных женщин имеет прямое отношение к теме творчества.
Примеров согласовательных аномалий, формирующих смысл текста, в поэзии Сосноры множество. Остановимся на одном примере.
В стихотворении «Уходят солдаты» из книги «Куда пошел? И где окно?» есть строки:
Имперские раковины не гудят,
компьютерный шифр — у Кометы!
Герои и ритмы ушли в никуда,
а новых — их нету.
В Тиргартенах[176] уж задохнутся и львы, —
не гривы, а юбки.
Детей-полнокровок от лоботомий
не будет. Юпитер!
И Мы задохнутся от пуль через год,
и боги уйдут в подземелья,
над каждым убитым, как нимбы (тогда!)
я каску снимаю.
Я, тот терциарий[177], скажу на ушко:
не думай про дом, не родитесь,
сними одеяло — вы уж в чешуе
и рудиментарны.
<…>
Смотря из-под каски, как из-под руки,
я вижу классичные трюки:
как вновь поползут из морей пауки
и панцирные тараканы[178].
Ответь же, мне скажут, про этот сюжет,
Империя — головешки?
А шарику Зем?..
Я вам не скажу, я, вам говоривший[179].
Грамматическим алогизмом Мы задохнутся в понятие «Мы» включены и Я субъекта речи, и безвинно погибшие, и те, кому не суждено родиться, и вожди, заставляющие считать себя богами. Именно местоимение мы является важнейшим элементом пропагандистской риторики (мы победим). Включение вождей в объем понятия «Мы», вероятно, маркируется заглавной буквой слова Мы. она напоминает орфографию сакральных текстов, требующую так писать местоимения, относящиеся к богам. Аграмматизмом Мы задохнутся, возможно, выражается и распад той декларируемой общности, которая связана с употреблением слова Мы.