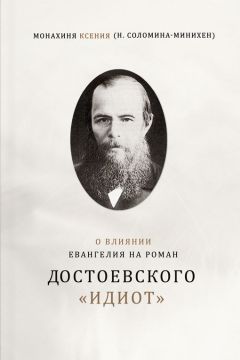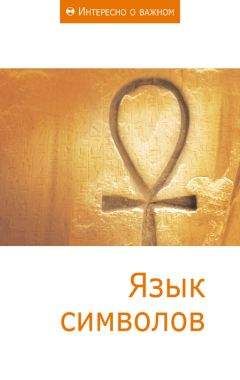Михаил Ямпольский - Пригов. Очерки художественного номинализма
Сущности у Пригова противоположны сущностям Адорно и Хоркхаймера. Они подобны мифологическим существам, возникающим от перехода от одного мира к другому, притом что миры эти решительно отделены друг от друга. Именно в момент перехода и возникают монстры приговских сущностей. Стихи цикла «Явления стиха после смерти» сами являются такими сущностями – ожившими мертвецами, существующими на переходе от жестового мира к текстовому и наоборот. Младенец в воде – не жив и не мертв – это «сущность», о которой Пригов говорит, что она «отстоит от всех миров на расстояние трансцендентного монического». «Трансцендентного» – то есть невообразимого для нашего опыта, «монического» – то есть не знающего подлинного различия между мирами, картезианского дуализма материального и умозрительного. Но «трансцендентное моническое» – это и есть смысл, возникающий в результате транзитности как жеста. Смысл – это сущность. И тут, конечно, нет ничего удивительного.
Возникновение «монической сущности» происходит только в режиме транзитности, которая невозможна без взаимной изоляции миров. Миры должны быть разделены некой мембраной, перегородкой, завесой, которую можно назвать «экраном». Если такой перегородки нет, нет и жеста проникновения, пронизывания, соединения разделенного. Отсюда – тесная связь между сущностью и материальностью медиума, экрана, неизменно присутствующими у Пригова.
Я говорю об экране потому, что экран – это белая непроницаемая для взгляда поверхность, на которую может проецироваться иллюзия иного мира. Пригов признавался, что в кино любит титры, которые выявляют двойственную онтологию экрана – окна и листа бумаги одновременно. Вот что он говорил по этому поводу:
Хорошо, когда экранное изображение покрывают компьютерные тексты. Тексты, взятые не в их собственном значении, в отрыве от семантики, когда важна пластика текста, его материальность, форма. Пластика текста – виртуальная пластика. Взаимодействие виртуальной пластики экранного текста и как бы реальной пластики киноизображения мне наиболее интересно. Будто бы текст нанесен на некое переднее стекло, и ты понимаешь, что вот эта материальность текста ближе и реальнее, чем углубленное пространство “за стеклом”, где разыгрывается действие. Ты понимаешь, что пространство, где действуют персонажи, конечно же, – выдуманное. А титры, текст, ими образованный, – абсолютно материален и реален, он ничего не имитирует. А в глубине – имитационное, нереальное пространство[167].
На таком экране иллюзия трехмерного мира прямо зависит от материальности букв на поверхности медиума. Поверхность эта во всей ее плотности и ощутимости должна быть как бы прорвана, чтобы возник мир фикции. Речь идет о действительном переходе из одного мира в другой.
Экран – это удобная метафора. В действительности же медиум, который имел для Пригова характеристики такого экрана, – это бумага. Бумага играет в мире Пригова совершенно особую роль. Почти все его изобразительные работы выполнены на бумаге и часто включают в себя слова, буквы, надписи. Бумага широко присутствует и в его перформансах. Но и для словесных текстов бумага имела далеко не служебный характер. Хорошо известно, что Пригов оформлял циклы своих коротких текстов в небольшие самодельные машинописные книжицы, часто небрежно сделанные. И хотя его творчество относится к эпохе самиздата, эти книжечки – не просто единственно доступный способ распространения текстов. В них важна материальность, качество машинописного шрифта (часто третья-четвертая копия, сделанная под копирку) и т. д. Нет сомнений, что изготовление этих книг во многом мотивировалось потребностью превратить текст в физический объект, который «абсолютно материален и реален, и ничего не имитирует».
Интерес к материальности бумаги может быть отчасти понят через метафору листа, которую приводит Соссюр в «Курсе общей лингвистики», когда говорит о структуре знака:
Каждый языковый элемент представляет собою arriculus – вычлененный сегмент, в котором понятие закрепляется определенными звуками, а звуки становятся знаком понятия. Язык можно также сравнить с листом бумаги. Мысль – его лицевая сторона, а звук – оборотная; нельзя разрезать лицевую сторону, не разрезав и оборотную[168].
Соссюр, конечно, стремится показать, что мысль и звук неразделимы. Но эта метафора привносит в его логику, вероятно, непредвиденные им элементы. Поскольку звук и мысль находятся на разных сторонах листа, они принадлежат разным мирам и могут встретиться, только если вывернуть бумагу наподобие ленты Мебиуса. Поскольку каждый языковый элемент – это «вычлененный сегмент», то сами границы этого сегмента парадоксально определяются элементом, который находится на недоступной оборотной стороне листа. Единственная возможность осуществить взаимное членение звука и мысли – это разрезать бумагу. Только этот разрыв бумаги и позволяет знаку состояться как arriculus’у.
Но именно разрез, разрыв поверхности и делает материальность медиума существенной и вводит агрессивный элемент жеста в процесс артикулирования значения. При этом жест тут имеет смысл проникновения, перехода от одной поверхности к другой, значение транзитности.
У Соссюра есть еще одна метафора знака:
Звуковая субстанция не является ни более определенной, ни более устоявшейся, нежели мышление. Это – не готовая форма, в которую послушно отливается мысль, но пластичная масса, которая сама делится на отдельные части, способные служить необходимыми для мысли означающими. Поэтому мы можем изобразить язык во всей его совокупности в виде ряда следующих друг за другом сегментаций, произведенных одновременно как в неопределенном плане смутных понятий (А), так и в столь же неопределенном плане звучаний (В). Все это можно весьма приблизительно представить себе в виде схемы (Ил. 20):
Ил. 20
‹…› Нет, таким образом, ни материализации мыслей, ни «спиритуализации» звуков, а все сводится к тому в некотором роде таинственному явлению, что соотношение «мысль – звук» требует определенных членений и что язык вырабатывает свои единицы, формируясь во взаимодействии этих двух аморфных масс. Представим себе воздух, соприкасающийся с поверхностью воды; при перемене атмосферного давления поверхность воды подвергается ряду членений, то есть, попросту говоря, появляются волны; вот эти‐то волны и могут дать представление о связи или, так сказать, о «спаривании» мысли со звуковой материей[169].
В этой метафоре Соссюр обходится без бумаги, слой которой отделял бы звук от мысли. Действительно, граница между воздухом и водой не имеет материальной толщины, это плоскость прямого соприкосновения волн с воздухом. Более того, волны – это поверхностные изменения, произведенные движением воздуха. Но если взглянуть на схему, то мы увидим, что между А («планом смутных понятий») и B («планом звучаний») существует некое неопределенное пространство, не позволяющее им войти в прямое соотношение. Это пространство, отделяющее мир понятий от мира звучаний, которые артикулируются между собой только жестом разрыва этого пространства.
Пригов явно материализует и абсолютизирует метафоры Соссюра. Между планом звучания и планом значения не существует связи. Это и понятно, ведь звук как материальный объект и значение как идеальный объект существуют в двух онтологически абсолютно разнородных мирах, переход между которыми в принципе невозможен. Эта идея отчасти напоминает логику стоиков, которые видели в мире абсолютно независимые и взаимно непроникающие сущности. Они считали, например, утверждение, что дерево зеленое, абсурдом, потому что дерево – это одна сущность, а зеленый цвет – другая, и они не могут проникнуть друг в друга, так как, проникая друг в друга, они бы изменили сущности друг друга, и дерево в итоге перестало бы быть деревом, а зеленый цвет – зеленым цветом. Изменение сущего возможно только под влиянием сил, присущих ему изнутри. С точки зрения стоиков, все взаимодействия происходят только на поверхности вещей, которые соприкасаются этими поверхностями. Моделью тут может служить разрез. Разрез оставляет след на поверхности, но не меняет сущности ни разрезанного тела, ни ножа. Это поверхностное событие. Эмиль Брейе так определяет своеобразие демарша стоиков: они
радикально отделили друг от друга то, что никто до них не разделял, – два плана бытия: с одной стороны, глубокое и реальное бытие, силу, а с другой стороны, план фактов, разыгрывающихся на поверхности бытия и составляющих множество не связанных между собой и не имеющих цели бестелесных сущих[170].