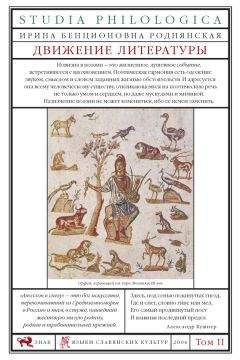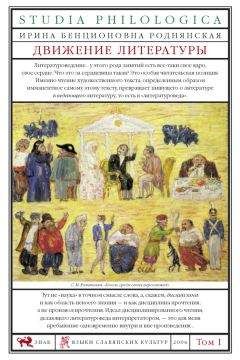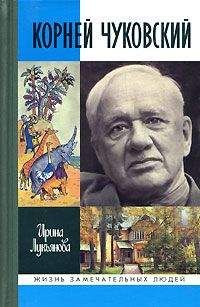Движение литературы. Том I - Роднянская Ирина
2
В последнее время стала осознаваться разнородность путей, какими следует комическая антропология Гоголя: «маска», «типаж» и, наконец, «всяк человек. [83] Именно смеясь над этим последним, мы хотя бы отчасти переадресуем насмешку себе самим.
В этой связи не раз подмечалось, что Гоголь писал не сплошь «типами» (комически объективированный социальными экспонатами). Одна из последних рефлексий на данную тему – связанный с живой, современной писательской практикой этюд о Гоголе в «Голосах» Владимира Маканина. По его мысли, Гоголь, совершая «прорыв» в XX век, выскочил из «системы типажей» (более всего развернутой в «Мертвых душах») к «системе обыкновенного человека». [84] Обыкновенные люди – это Акакий Акакиевич из «Шинели», Чертокуцкий из «Коляски»: просто люди, выставленные с изнанки, оголенные «конфузной ситуацией», в которую их ставит автор.
Маканин во многом прав. Не совсем точен он, на мой взгляд, лишь тогда, когда ориентирует свою мысль прежде всего на героя «Шинели». Ведь неспроста же, согласно традиционному мнению, именно из «Шинели (а не из «Коляски», не из комедий или поэмы «Мертвые души») «вышла» натуральная школа XIX века. В «Шинели» дистанция, отделяющая и повествователя, и читателя от центрального лица, столь надежна, что никакими «гуманными местами» ее не преодолеть; [85] в «маленьком человеке», Башмачкине, распознать каждого человека, «эвримена» (и значит, себя), куда трудней, чем почувствовать к нему великодушное сострадание – как раз и подхваченное русской литературой последующих десятилетий.
Вернемся, однако, к маканинской мысли о «конфузной ситуации», в иных случаях идущей у Гоголя «впереди» характерности и типажности. Мысль эта косвенно подтверждается тем, что, создавая ряд своих комических лиц, Гоголь отталкивался от прототипического положения, а не от прототипического, подсмотренного в натуре человеческого характера. В основу «Ревизора» положен, как известно, бродячий анекдот, но в жизни этот анекдот произошел не с кем иным, как с Пушкиным. Не раз ускользал по-подколесински от жизненной определенности сам Гоголь. По рассказам, неловкое приключение, вроде того, в какое попал Чертокуцкий, случилось однажды с рассеянным Виельгорским, одной из заметных фигур петербургского просвещенного общества. Говорят, на комическую интригу «Женихов» (первоначальная версия «Женитьбы») Гоголя навели обстоятельства, связанные с историей замужества его сестры. Из всего этого, разумеется, не следует, что в Чертокуцком надо видеть «типизм» Виельгорского, в Подколесине – отыскивать специфически гоголевские черты (в нашем веке это, увы, делалось с охотой), а в Хлестакове – упаси Бог, пушкинские. Скорее, несходство между реальными и вымышленными субъектами этих происшествий приводит к мысли, что в каждом из человечески «бедных», недостаточных и «пошлых» героев Гоголя есть нечто, общее для любого круга и состояния.
Неуверенной, колеблющейся (ввиду зыбкости границы) рукой решимся все-таки провести разделительную черту между разными группами гоголевских персонажей. Сквозника-Дмухановского вместе с прочими чиновниками из «Ревизора», а также Манилова, Коробочку, Собакевича, Плюшкина мы разглядываем как неожиданные открытия в мире феноменов, как творения, полученные через пересоздание автором внешней жизни. Он произвел их высшим творческим актом (куда, наряду с жесткостью взгляда, входит и любовь – к своему изделию), населил ими немереный русский простор, и с этой поры они кажутся нам реальнее самой реальности – как некое новое племя, выращенное, конечно, на здешней почве, но по методике какой-то генетической операции. Это художественно прекрасные социальные уроды. Они наделены своей особенной – не нашей – жизнью, [86] которая бьет в них ключом. Не то – Хлестаков, Анна Андреевна в паре с Марьей Антоновной, Чертокуцкий, Подколесин, Агафья Тихоновна, Кочкарев; Ноздрев, наконец. В строении этих образов присутствует – совершенно непроизвольно, и тем оно важнее – нравственно-«аскетическое» слагаемое, ибо понимание их по-настоящему возможно только через беспощадное понимание себя, то есть через некое, как в старину говорили, «трезвение». В этих лицах нет ничего по-раблезиански или по-свифтовски чрезмерного, ничего статуарно-рельефного, законченного и представительного. Они полуявлены, неуловимы, вездесущи (хлестаковское «Я везде, везде!!!»). Они сгустились не извне, не из «действительности» – в виде продолжающих ее массивных новообразований, а взяты, пользуясь позднейшим выражением Достоевского, «из сердца». Они лишены движений духа, самосознания, что придает им неповторимый комизм пошлости, но в остальном они суть «всяк человек», живущий среди нас и в нас.
Притом Кочкарева и Ноздрева опять-таки придется отнести к особому «подклассу» – к тем назойливым существам, которых мы при некотором опамятовании находим хотя и не «в себе», но и не в далях объективной житейской панорамы, а близ себя, вплотную к себе. Эти гоголевские неугомонные «бесы» расположились при нас и покушаются на наше «я» с его свободной волею даже и чисто физическим образом. Бесцеремонное обращение Ноздрева [87] и Кочкарева [88] с телесным составом ближнего – это не только характеристический признак их нрава, но и символический знак их прилипчивости, неотвязности, нераздельности с каждым из нас. (Разве Ноздрев – не паясничающий палач Чичикова?) К этим персонажам, к их воздействию на свои жертвы в первую очередь приложимо тонкое замечание К. Мочульского об антропологическом открытии Гоголя: «Психика человека – единственный путь проникновения в мир злого начала». [89]
Что касается прочих «вездесущих», они по сей день высвечивают любого из нас как свой оригинал. Так, нет сомнения, что дополнительную углубленность, простертость в будущее придает «общественной комедии» Гоголя – Хлестаков. В присутствии этой бессмертной фигуры бессмертными становятся и остальные участники действа. В свое время Гоголь хотел, чтобы сценическое исполнение не превращало «Ревизора» в пьесу под названием «Городничий». Эта авторская интенция оспаривалась критикой – от Белинского (впоследствии переменившего свое мнение) до Г. А. Гуковского, [90] уже в наши дни утверждавшего: Хлестаков – только ключик, которым заводится действие, только проявитель примелькавшихся язв гражданского быта, только призрак, порожденный страхом нашкодивших градоправителей, – появляющийся лишь во втором действии, а уносящийся прочь уже в четвертом. Все-таки мнение Гоголя о должном соотношении лиц в его комедии, кажется, к настоящему времени прочно восторжествовало. [91] Впрочем, лишь в теории, а не в сценической практике, ибо на сцене Городничий обыкновенно получает все преимущества перед Хлестаковым, представляемым с той фарсовой чрезмерностью, от которой предостерегал исполнителей автор.
Каждый из своего опыта знает (а большие люди, начиная с самого Гоголя, свидетельствуют), что нельзя человеку не побывать Хлестаковым хоть раз-другой в жизни (главное тут – вовремя поймать себя на сходстве и осечься). Между тем эта роль чаще всего играется так, словно актер задался специальной целью показать, что некий фатоватый свинтус, окосевший нахал, охамевший козел не имеет ни малейшего отношения ни к его актерской личности, ни к тем, в зрительном зале, перед кем он ломается. Хлестаков, созданный так и с таким расчетом, чтобы вызвать у зрителей неодолимо конфузное самоотождествление с этим сгустком «одномерной», как сказали бы сейчас, и гедонистической цивилизованности, к которой мы все причастны, – оказывается наиболее чужд, странен, иноприроден и смешон «впустую». Для Гоголя, мы уже знаем, такой результат представлялся полным срывом его миссионерской задачи. Когда б не этот срыв, не понадобилось бы ему десятилетие спустя давать аллегорическое толкование персонажей комедии в «Развязке “Ревизора”».