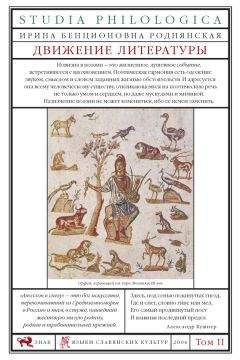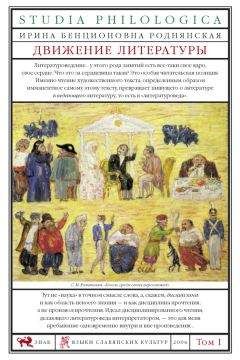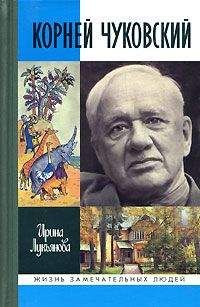Движение литературы. Том I - Роднянская Ирина
Важнейший путь ее решения виделся в создании высокой общественной комедии. Поэтому на «Ревизора» возлагались Гоголем такие кардинальные надежды и с ним же после первой постановки были сопряжены столь мучительные разочарования. В общественной комедии («аристофановской», как гласит традиционное для «Ревизора» сопоставление) и субъект, и объект смеха, так сказать, собирательны, коллективны; уже одним этим обеспечивается неполное отождествление каждого смеющегося «я» с теми, над кем оно смеется. Оно причастно к осмеиваемым как член одного с ними сообщества, но не как «эта», конкретная, личность. Такая «полутождественность» позволяет смеющемуся обратить свой смех не совсем противу собственного лица, а скорее против своего социального функционирования, что, конечно, не вполне одно и то же. Даже эта мера отождествления, задевавшая социальное достоинство осмеиваемых (они же, как рассчитывал автор «Ревизора», смеющиеся), оказалась труднопереносима, и против Гоголя, по его словам, восстали «все сословия». Все же, как свидетельствуют современники, у присутствовавшего на спектакле самодержца достало демонстративной готовности смеяться – в порядке монаршей самокритики. Так или иначе, катарсический эффект «Ревизора» показался тогда Гоголю вопиюще ничтожным, а достигнутая мера самоотождествления публики с лицами на сцене – совершенно недостаточной. В окончательной редакции пьесы он пытался повысить эту меру отождествления смеющегося с осмеиваемым, введя знаменитый эпиграф и не менее знаменитое обращение Городничего к присутствующим лицам. Некоторых читателей он задел после этого еще сильнее, чем прежних зрителей (характерно сообщение С. Т. Аксакова: «Загоскин неистовствует против “Женитьбы” и особенно взбесился на эпиграф к “Ревизору”. С пеной у рта кричит: “Да где же у меня рожа крива?” Это не выдумка» [79]); но вызвал ли он тот покаянный смех, которого так добивался?
По ходу дела мы успели уяснить, что возможность «покаянного смеха» (такого, за которым невольно следуют слезы стыда и самообвинения) зиждется на хрупкой диалектике «различения – отождествления», «расподобления – уподобления» между смеющимся и осмеиваемым, на отношении к себе как к другому и опознании в другом себя. Требование полного отождествления субъекта и объекта смеха, авторский нажим или усиленный намек в этом направлении ведут к противодействию (криво, дескать, твое «зеркало», а не моя «рожа»); при отсутствии же каких-либо данных для такого отождествления смех излетает уже не из светлой природы человека, становится «не тем» смехом, окрашиваясь элементарно-физиологически или агрессивно.
Средством «расподобления» и последующего «уподобления», настраивающим читателя на нужное отношение к персонажу, у Гоголя часто служит то, что можно назвать комментируемым смехом. Говоря несколько пространнее, это социально локализованный смех, сопровождающийся расширительным авторским комментарием. То обстоятельство, что все «смешные» гоголевские лица (исключая малороссийскую панораму) – господа средней руки (чиновники невысокого разбора, провинциальные помещики) вкупе со своими слугами, в общем, публика, далекая как от аристократизма или подлинной образованности, так и от положительных народных начал, – эта социальная привязка много способствует необходимому, растормаживающему смех эффекту «расподобления». Ведь автор не может не предполагать, что над его героями посмеются люди, принадлежащие к среде с более гибким интеллектом и самосознанием, с более утонченным душевным развитием, чем у тех, кто послужил натурой для комического изображения. Недаром Гоголь как литератор принадлежал к «аристократической» партии «Современника». Прибегая к старейшей традиции комической литературы, он склонен был обозначать между смеющимся и осмеиваемым ощутимую социально-культурную дистанцию. По этому поводу сам он замечал: «И то, что бы приняли люди просвещенные с громким смехом и участием, то самое возмущает желчь невежества» (XI, 45), то есть сокращение культурной дистанции гасит смех. Кстати, и Белинский объяснял частичный неуспех комедий Гоголя на сцене тем, что в зрительный зал набивалась публика, по своему общественному и образовательному уровню мало отличающаяся от представленных на сцене персонажей.
Однако вслед за таким (в данном случае, социальным) расподоблением, которое должно облегчить «излетание» смеха, обманув бдительность нашего, пуще всего боящегося показаться смешным, «эго», у Гоголя следует уподобление, призванное перевести смех на рельсы самоузнавания и покаянной самокритики. Этой-то цели в гоголевской прозе часто служит комментарий повествователя. Широко известен пассаж из «Мертвых душ» о Коробочке: «… веселое мигом обратится в печальное, если только застоишься перед ним, и тогда бог знает что придет в голову. Может быть, станешь даже думать: да полно, точно ли Коробочка стоит так низко на бесконечной лестнице человеческого совершенствования? Точно ли так велика пропасть, отделяющая ее от сестры ее, недосягаемо огражденной стенами аристократического дома с благовонными чугунными лестницами…» (VI, 58). Осмелимся признаться себе, что в этом комментировании, резко снимающем социальную дистанцию и обращающем «противу лица» образованных читателей вслед за смехом (с его «недумающими, веселыми, беспечными минутами») «иную чудную струю» горечи и печали, – что в этом риторическом вопрошании уже сквозит некая искусственность. В самом деле, чем так Коробочка, именно Коробочка, похожа на аристократическую даму, толкующую о модных уклонах католицизма и политических переворотах? Разве что расстроенным хозяйством, – но у Коробочки, несмотря на тупость, как раз есть хозяйский толк. Чувствуется, Гоголь дидактически здесь форсирует свою потребность в «повороте смеха». Но сама эта потребность существовала в нем исходно, а не только на стадии осознано-программных, учительных задач. [80] Тому пример – «Иван Федорович Шпонька…», писанный еще в 1831 году. «Книг он, вообще сказать, не любил читать; а если глядывал иногда в гадательную книгу, так это потому, что любил встречать там уже знакомое, читанное несколько раз. Так городской житель отправляется каждый день в клуб, не для того, чтобы услышать там что-нибудь новое, но чтобы встретить тех приятелей, с которыми он уже с незапамятных времен привык болтать в клубе» (I, 288–289). Молодой, веселящийся автор как бы успевает предупредить своего образованного читателя, чтобы тот не слишком зазнавался и не считал милого Шпоньку круглым идиотом, отделенным от него, читателя, множеством маршей на «лестнице человеческого совершенствования». Городской житель, клубный завсегдатай, наравне с Иваном Федоровичем живущий смешной инерцией привычек, должен послужить посредствующим звеном в уподоблении микроскопического Шпоньки горделивому читателю.
Если же такой «уподобляющий», «расширителыный комментарий в силу избранного – драматического – жанра со стороны автора никак невозможен, комментарий этот, как бы подразумеваемый в замысле того или иного сценического лица, часто напрашивается на перо чуткому толкователю. Откликаясь рецензией на «Женитьбу», Белинский замечает по адресу Подколесина: «Пока вопрос идет о намерении, Подколесин решителен до героизма; но чуть коснулось исполнения – он трусит. Это недуг, который знаком слишком многим людям, поумнее и пообразованнее Подколесина. В характере Подколесина автор подметил черту общую, следовательно идею…». [81] Еще интересней в комментировании Белинского выглядят те, кто «поумнее» и «пообразованнее» Кочкарева, а между тем в прочем подобны ему. Вводная формула, предваряющая рассуждения критика об этом удивительном персонаже, несколько случайна, недостаточно прицельна: «… добрый и пустой малый, нахал и разбитная голова». Но дальше следует уже знакомое нам выведение образа за рамки его локальной среды: «Горе тому, кто удостоится его дружбы. Кочкарев переставит у него по-своему мебель в комнате, да еще будет ругать, если тот не усердно будет помогать ему распоряжаться в своем доме… Кочкарев хочет, чтобы все шло и делалось через него…». [82] Уж не свою ли дружбу с Бакуниным, ее мучительные испытания имеет здесь в виду Белинский? Дружбу с Мишелем, обладателем тиранического темперамента, с человеком, который, по свидетельству «Висяши» (Виссариона Григорьевича), требовал от наставляемых им друзей общности взглядов даже на гречневую кашу? Во всяком случае, в отзыве Белинского проскальзывает готовность признать некое сходство между личностью своего склада и Подколесиным, между Кочкаревым и своими знакомцами – так что дистанция, отделяющая комические персонажи «Женитьбы» от просвещенной аудитории, снята во имя «общей идеи», юмористической тотальности.