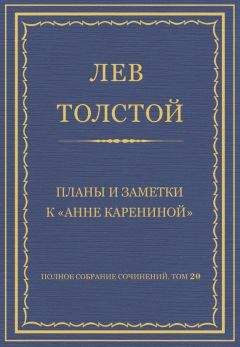Василий Розанов - О писательстве и писателях. Собрание сочинений [4]
Протираем глаза и спрашиваем себя, о чем речь? где движется рассказ и где рассказчик? Да рассказчик — малоросс, все это видавший, но грезит-то он о совсем другом мире, никем не виденном, и грезит так беззастенчиво, точно в самом деле потерял сознание границы между действительностью и вымыслом или не обращает никакого внимания на то, что мы-то, его читатели, уж конечно знаем эту границу и остановим автора. Перед нами сомнамбулист. Конечно, никаких таких гор нет около Днепра; да кто видал и настоящие горы, Карпаты или даже Кавказ, хорошо знает, что никак о них нельзя сказать: «подошвы у них нет», «острые у них вершины». Все гораздо проще для наблюдателя. О, и Гоголь имеет тайну искусства так нарисовать действительность, гак ее подметить в самомалейших реальных подробностях, как никто. Но он имеет тайную силу вдруг заснуть и увидеть то, чего вовсе не содержится в действительности, увидеть правдоподобно, ярко… точно «пани Катерина» в этой же «Страшной мести», душу которой вызывал ее страшный отец: «Пани моя, Катерина, теперь заснула, а я и обрадовалась тому, вспорхнула и полетела», — говорит «душа» странной сновидицы. Так и Гоголь. Какая-то внутренняя метаморфоза, и вдруг хорошо знакомый Аксаковым малоросс отделяется от своего тела, странствует по каким-то мирам, и потом, когда возвращается в свое «тело», друзья, знакомые говорят: «Мы ничего о нем существенного не знаем: существенное — в его загробных почти странствованиях, в сомнамбулических видениях, в неисследимой и неисповедимой организации его души, а в руках у нас — матерьялы скучнейшей его биографии, совершенно с этими видениями не связанной». Но мы заговорили о стиле и что есть тут родство между Гоголем и Лермонтовым:
Задумчиво столбы дворцов немых
По берегам теснилися, как тени,
И в пене вод — гранитных крылец их
Купалися широкие ступени;
Минувших лет событий роковых
Волна следы смывала роковые,
И улыбались згезды голубые,
Глядя с высот…
Опять протираем глаза и спрашиваем себя: что это, Венеция описана? Нет, Петербург! Немного выше читаем;
Над городом таинственные звуки,
Как грешных снов нескромные слова,
Не ясно раздавались — и Нева,
Меж кораблей сверкая на просторе,
Журча — с волной их уносила в море.
Один писатель взял «Днепр», и другой — «Петербург», взяли реальные предметы, но тотчас они почувствовали или какое-то отвращение, или скуку к теме; надпись, заголовок — остались: «Днепр», «Петербург»; но уже в их голове зашуршали какие-то нисколько не текущие из темы мысли, о которых Лермонтов оставляет даже след в стихотворении: «грешных снов неясные слова», «следы роковые роковых событий», «голубые звезды», — и смело, мужественно, беззастенчиво в отношении к читателю оба унеслись в рисовку картин неправдоподобных и, однако, для самого читателя становящихся дорогими, милыми, чарующими. У Гоголя в самом тоне слов: «Тихо светит по всему миру», — появляется какая-то нега, какое-то очарование, описание получает тон космополитический. Это — не Днепр рисует автор, он рисует свою душу, но душу, тянущуюся ко всему миру, и странные слова о горах, которых «ни подошвы, ни вершины не охватить глазом», ни малейше не удивляют читателя, не шокируют его. «Мало ли что есть в свете, мало ли чего нет в мире: Гоголь все видит, все знает, и если его горы не похожи ни на какие земные, то, может быть, они похожи на горы Луны или Марса. Где-то, что-то подобное есть, и Гоголь мне показывает, и я плачу и благодарю, что он раздвинул мое знание, показал воочию мои предчувствия». Этот-то характер рисовки, неправдоподобной и столь напряженно страстной, что она создает иллюзию полного правдоподобия, и заставил когда-то воскликнуть Белинского, что «степи Гоголя лучше степей Малороссии»[58], как и Петербург Лермонтова лучше Петербурга, в котором мы живем. И, однако, Лермонтов, когда хочет, может быть таким же натуралистом, как Гоголь. В «Бородине», «Купце Калашникове», «Люблю отчизну я…» он дает такие штрихи действительности, является таким ловцом скрупулезного, незаметного и характерного в ней, как это доступно было Гоголю только и последующим нашим натуралистам писателям:
Люблю дымок спаленной жнивы
· · · · · · · · · · · · · · · ·
С резными ставнями окно…
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно.
Тут уже взят полный аккорд нашего народничества и этнографии 60-х годов. Но не здесь «родина» странного поэта; тут только мощь его. Сомнамбулист сочетает в себе величайший реализм и несбыточное, он идет по карнизам, крышам домов, не оступаясь, с величайшей точностью, и в то же время он явно руководствуется такою мыслью своего сновидения, которая очевидно не связана с действительностью. Вот это-то и было у них обоих, Гоголя и Лермонтова. Оба они имеют параллелизм в себе жизни здешней и какой-то нездешней. Но родной их мир — именно нездешний. Отсюда некоторое их отвращение к реальным темам: знаменитые «лирические места» у Гоголя. Возьмем его «Мертвые души»; как они не похожи на выполнение аналогических сюжетов — «Базар житейской суеты»[59] у Теккерея или великолепный «Пикквик» у Диккенса. Гоголь явно страдает, страдает от темы, страдает от манеры письма. Он не «гуляет», как в фантастических малороссийских вымыслах. Рассказ узок, эпопея удушлива, тесна; ни одного лишнего слова в ней; автор точно надел на себя терновый венец, и идет, сколько будет сил идти. Но вот колена подгибаются, и вдруг — прыжок в сторону, прыжок в свою сомнамбулу, «лирическое место», где тон сатиры вдруг забыт, является восторженность, упоение, счастье сновидца. Это он в родном мире, и опять мы не можем не сравнить его со страшными путешествиями души пани Катерины в старый замок ее грозного отца. «О, зачем ты меня вызвал, отец. Мне было так радостно. Я была в том самом месте, где родилась и прожила пятнадцать лет. О, как хорошо там! Как зелен и душист тот луг, где я играла в детстве; и полевые цветочки те же, и хата наша, и огород!» Тоска виденья, какую знал и Лермонтов:
И вижу я себя ребенком; и кругом
Родные все места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей;
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
И за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над водами,
В аллею темную вхожу я…
Автор грезит об этом… на балу в Московском дворянском собрании 1-го января, — место столь же неудобное для засыпания, для видения, для сомнамбулических странствований, как и та мирная печка, на которой заснула казачка Катерина, а «пан-отец» позвал ее к себе. Вообще, — если от характера живописи мы обратимся к самым темам, мы найдем и здесь близость Лермонтова и Гоголя. Известно, как дивился Белинский[60], что 26-летний Лермонтов, офицер и дуэлист, проник с изумительною правдою в материнские чувства в «Казачьей колыбельной песне». Но что такое, как не эта же песнь причитанья матери Андрея и Остапа Бульбы в ночь перед отправлением их в «Сечь». Одна мысль, одно чувство, и как выраженное, с какою пронзительностью, у малоросса-сатирика и петербургского денди.
* * *Входя в мир тем нашего поэта, нельзя не остановиться на том, что зовут его «демонизмом». Но и здесь поможет нам параллелизм Гоголя. «Приподняв иконы вверх, уже есаул готовился сказать краткую молитву, — как вдруг закричали, перепугавшись, игравшие на земле дети, а вслед за ними попятился народ, и все показывали со страхом пальцами на стоявшего посреди их казака.
Кто он таков — никто не знал. Но уж он протанцовал на славу казачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. Когда же есаул поднял иконы, вдруг все лицо казака переменилось: нос вырос и наклонился в сторону, вместо карих — запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копье, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб, и стал казак — старик» («Страшная месть»).
Как похоже… на Гоголя, который уже «насмешил всю почтеннейшую публику», отплясав казачка в «повестях Рудого Панько», и когда все ожидали, что он такое еще выкинет, «вдруг поднялся у казака горб из-за спины», он состарился, осунулся в петербургских своих рассказах, и, наконец, в «Переписке с друзьями» и «Авторском завещании» заговорил самые необыкновенные вещи, а умер фантастично и покаянно, как будто нагрешил самые несбыточные грехи. Как хотите, нельзя отделаться от впечатления, что Гоголь уж слишком по-родственному, а не по-авторски только знал батюшку Катерины, как и Лермонтов решительно не мог бы только о литературном сюжете написать этих положительно рыдающих строк:
Но я не так всегда воображал
Врага святых и чистых побуждений,
Мой юный ум, бывало, возмущал
Могучий образ. Меж иных видений
Как царь, немой и гордый он сиял
Такой волшебно-сладкой красотою.
Что было страшно… И душа тоскою
Сжималася — и этот дикий бред
Преследовал мой разум много лет…[61]
Это слишком субъективно, слишком биографично. Это — было, а не выдумано. «Быль» эту своей биографии Лермонтов выразил в «Демоне», сюжет которого подвергал нескольким переработкам и о котором покойный наш Вл. С. Соловьев, человек весьма начитанный, замечает в одном месте, что он совершенно не знает во всемирной литературе аналогий этому сюжету[62] и совершенно не понимает, о чем тут (в «Демоне») идет речь, т. е. что реальное можно вообразить под этим сюжетом. Между тем. эта несбыточная «сказка», очевидно, и была душою Лермонтова, ибо нельзя же не заметить, что и в «Герое нашего времени», и «1-го января», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу», да и везде, решительно везде в его созданиях, мы находим как бы фрагменты, новые и новые переработки сюжета этой же ранней повести. Точно он всю жизнь высекал одну статую, — но ее не высек, если не считать юношеской неудачной куклы («Демон») и совершенных по форме, но крайне отрывочных осколков целого в последующих созданиях. Чудные волосы, дивный взгляд, там — палец, здесь — ступня ноги, но целой статуи нет, она осталась не извлеченной из глыбы мрамора, над которою всю жизнь работал рано умерший певец.