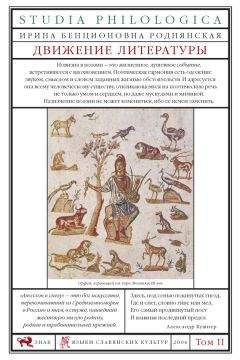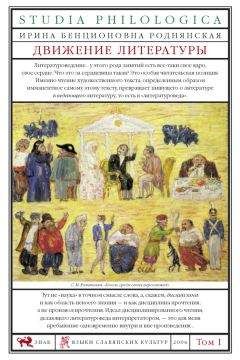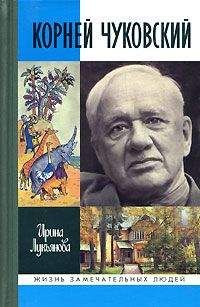Движение литературы. Том I - Роднянская Ирина
Очевидно, что романтическое противостояние «личность – толпа», тем более «художник – толпа», совершенно не в духе Маканина. Но не будем торопиться и с выводом о заурядности лиц, обеспечивающих повествование. У них есть некоторые привилегии или по крайней мере некий промежуточный статус.
Ключарев, видимо, интеллигент в первом поколении, вынужденный полагаться на свою житейскую сноровку и бытовую умелость, прикованный жизнью к поверхности земли, но пытающийся ввинтиться в люк, отверстый в другую жизнь, углубиться (и это когда «глубина духовной жизни невозвратно утрачена» – «Квази»); дерзающий укрыть от Аргуса-коллектива что-то свое. Осуществляя в «Лазе» челночные рейсы между руинированным городом и его рафинированным подпольем, прихватывая из-под земли вещи сугубо материальные, нужные в примитивном обустройстве, он заодно на минуту приобщается там к материям невещественным, духовно питательным, и эту атмосферу «высших запросов» ощущает как родную себе. Иными словами, он – связной. Связной между толпой, занятой таким же унылым, бесцельным приспосабливанием к жизни, и той глубиной, которая раньше эту жизнь питала. Один из толпы, но не весь – ее.
Игорь Петрович – еще более тонкая штучка. Татьяна Касаткина в статье «В поисках утраченной реальности» («Новый мир», 1997, № 3), анализируя позицию этого маканинского повествователя, приходит к выводу, что персонажи, чьи «досье» он собирает, с кем собеседует, о ком вызнает то да се, кому, наконец, помогает, – не более чем плоды его воображения: он возвышается над ними в качестве самоуправного творца, вертит ими как хочет, рядополагает равноправные версии их биографий, ни одну не метя как доподлинно реальную. Думается, если бы дело было так, Маканину незачем было бы передоверять повествование этому странному полудвойнику, претерпевающему, кстати, собственные жизненные казусы и невзгоды. (Ведь одиночество своих знакомцев – Одного и Одной – он то и дело примеряет на себя и, действительно, в рассказе «Там была пара…» оказывается столь же одиноким среди новой поросли, как те, «шестидесятники», среди следующих за ними.) В общем, Маканин мог бы представить нам какие угодно жизнеописания, не прибегая к посреднику и предаваясь перебору воображаемых вариантов от собственного имени.
Все дело, однако, в том, что в лице литературного труженика Игоря Маканин осуществил достаточно новую, неопробованную версию взаимоотношений автора и его героев – версию, структурно соответствующую «эпохе масс». Изобретенный им повествователь отличен и от рассказчика (тот доносит лишь доступные ему ограниченные сведения), и от «объективной» авторской инстанции (когда автору ведомо все, как Господу Богу). Он знает о предмете изображения куда больше, чем это можно мотивировать его житейской ролью, но он над этим предметом не возвышается, он все время рядом с теми, кого живописует, он на сцене, а не за сценой, покорный общей суете, лишенный даже формальных преимуществ исключительности. (Быть может, какая-то предвосхищающая аналогия тут найдется в сложнейшей персоне Хроникера из «Бесов» Достоевского.)
«В толпе всё кто-нибудь поет», – сказано Блоком о новом положении творца в век омассовления. Игорь Петрович – один из толпы, но и отличный от нее, поскольку «поет». Опять-таки связной – между толпой и творческим началом, инородным ей. В «Сюжете усреднения» эта диспозиция обнажается вполне. Игорь Петрович стоит в очереди за постным маслом. Очередь идеальная, почти идиллическая модель «усреднения»: терпеливое равенство, общая на всех справедливость, единодушная устремленность к результату и соборное разрешение склок. Игорь Петрович топчется и продвигается вместе со всеми, сообща переживая заторы и приостановки в подаче продукта. Между тем он, подобно герою «Стола с графином», испытывает «страх обнаружения», страх своего расподобления с другими. Потому что, пока его тело, да и душа, вожделеющая дефицитного масла, живет в унисон с прочими частями составного тела очереди, его литературный интеллект предается размышлению и воображению – занятиям, за которыми его могут поймать как втершегося в доверие чужака. А ведь он – мысль этой очереди, он не витает в эмпиреях, не пренебрегает тем, что вокруг, он творит на подножном сырье, приподнимая ситуацию до обобщения и художества. Он обдумывает философический сюжет о том, как герой русской литературы, этот «скиталец», в девятнадцатом веке стремился слиться с народной общностью («уехать на Кавказ», «жениться на крестьянке») и как в веке двадцатом у его наследников одна забота, обратная, – как-то отстоять свое «я» в гуще коллективного «мы». Игорь обозначает для себя эту историческую кривую как подъем в гору и спуск с горы и в воображении переживает ее даже двигательно, так что одна моторика (в ползущей очереди) накладывается на другую – двойная жизнь. Ответвляется тут же и будущий сюжет «Кавказского пленного», верней, намек: горы, бивуак, армейская спайка.
Но гораздо ярче, чем философема (недодуманная, неохватная мысль о превращении общности в толпу – многовековом оползне), вспыхивает «картинка». К очереди подходит слабоумный «убогий юноша», и бойкая деваха из здешних мест апеллирует к общему чувству справедливости: пропустите, видите, какой он! – парня пускают к прилавку. Наш чужак-соглядатай тут же, вслед удаляющимся из очереди юноше и его заступнице, дорисовывает то, что могло случиться после (притом переход от «жизни» к «вымыслу» в тексте «Сюжета усреднения» ничем не обозначен – как и в прочих сюжетах с Игорем Петровичем, где ему тоже поручено не только «собирание материала», но и «довоображение» его). На глазах рождается одна из новейших ярких маканинских новелл – жестокая, циничная, трогательная. И масло Игорем куплено, и дух втихомолку распотешен.
«Сюжет усреднения» – вещь почти лабораторная, с обширными пустошами теоретизирования, сочлененная на скорую руку. Но зато очерчена природа художественного акта в новых условиях – когда творец отождествляет себя с человеком массы и одновременно дистанцируется от него, озвучивает его голос и в то же время оберегает собственный неслиянный звук, тоскует по «тихой ноте общности» и сжимается в комок перед перспективой «усреднения». Встречает раздвоенной закатной жизнью утро толпы. Новелла с «убогим» венчает всю эту многосоставную, сборную вещь. Она в финале, в итоге. И это важно заметить. Потому что в прозе Маканина рядом с авторскими представителями – рядом с Ключаревым и Игорем Петровичем – выразительно обозначается еще одно переходящее из сюжета в сюжет лицо: юродивый, умственно отсталый, а вернее и точнее – умственно невинный. Трудно назвать сочинение «позднего» Маканина, где бы не присутствовало такое существо: и в «Отставшем» – золотоискатель Леша, и в повести «Долог наш путь» – наивная и стыдливая молодая коровница, чем-то переболевшая и остановившаяся в развитии, и в «Лазе» – сын Ключаревых, мужающий подросток с умом четырехлетнего ребенка, и вот здесь, в «Сюжете усреднения», – слабоумный, посланный дачницей-матерью за простейшими покупками (и даже мимоходом, в «Одном и одной», не упущен быть помянутым «тучный мальчик-дебил»).
«Будьте, как дети». Но это не дети, это большие дети, райски-невинные даже в моменты – бессознательного, сонного – совокупления. Они резко выделяются из толпы, не могут в ней раствориться, но и не ведают «страха обнаружения». Им и не нужно прятаться. Толпа сама расступается перед ними, беспрепятственно выпускает их из своих объятий. Даже от заседающих за пресловутым «столом» они «уходят по сути нерасспрошенными». Те, за столом, все же «знают, что до Бога им далеко. И потому, суеверно боясь накликать беду на свои головы… отпускают несчастных с миром, оставляя убогих у Бога: ему их оставляют, мол, это не наши…». Толпа чует: «убогие» несут в себе некую тайну – тайну свободы от мирового зла. И склоняет перед этой тайной голову, храня единственную, быть может, из народных традиций, утерянных по миновении той поры, когда народ был общностью…