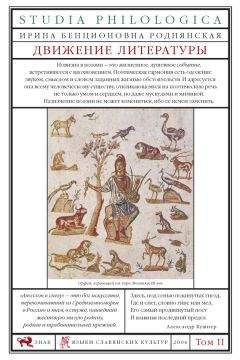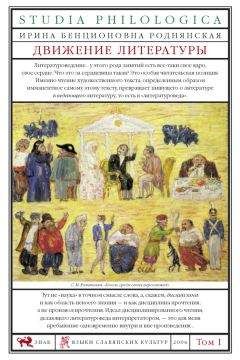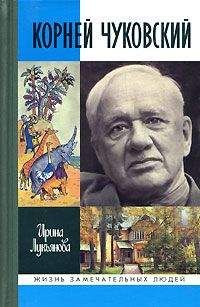Движение литературы. Том I - Роднянская Ирина
Сюжеты тревоги
Маканин под знаком «новой жестокости»
… раздражает телевидение, рассказы об убийствах, расчлененки в подъездах, закопанные в мусорных баках младенцы… бесчисленные алкоголики, сгоревшие в квартирном пожаре…
«Раздражает» все это сверхчувствительного персонажа повести «Долог наш путь», которою Маканин открыл 90-е годы: Илья Иванович (антипод толстовского Ивана Ильича – того проняла лишь собственная смерть), не выдержав череды подобных заурядных впечатлений, истаивает и гибнет в психиатрической больнице…
Трудней всего писателю – если он серьезен. По роду деятельности он обязан быть не менее отзывчивым, чем такой патологический сострадатель, но, тут же, предельно стойким перед лицом неизменного (или нарастающего?) гнета жизни; ведь акт творчества – даже когда и не приводит к катарсису – это всегда «сублимация», возгонка любого ужаса в слово и образ, предполагающая в определенные моменты чуть ли не циническое хладнокровие.
Вдобавок для прозаиков, достигших зрелости полутора-двумя десятилетиями раньше, переход в новое российское время психологически близок к эмиграционному шоку; попадание в зону игры без правил, именуемую свободой, сходно с попаданием за бугор: «Сплошь и рядом, выдернув ногу из вязкой глины, ты опускаешь ее на зыбучий песок» (как удачно сказано А. Найманом по поводу географической эмиграции).
Пережил ли Маканин этот шок без потерь, ответ на это пусть дает его большой роман, но до романа он опубликовал в журналах 90-х годов цепочку повестей и рассказов, порой донельзя странных, порой и не претендующих на удачу, иногда же – пронзительно впечатляющих, но во всех случаях – не тех, что прежде. Под тремя обширными композициями, помеченными 1987 годом, – это «Один и одна» (недооцененный маканинский шедевр!), «Отставший» и «Утрата» – подведена черта; больше ни слова ни о «месте под солнцем», ни об уральских легендах, ни о барачной коммуне, ни о прагматиках, потеснивших увядающих идеалистов; другое время – другие песни. Примечательно, что Маканин, назвавший годы, когда слово «рынок» и шепотом не произносилось, а между тем покупалось и продавалось все – карьера и душа, жена и любовница, «мебельным временем», сейчас и звука не проронит о «поре мерседесов» или «поре пирамид»: он знает, что не эти колеры нынетекущего времени – главные.
Писатель Маканин – из породы вестников. Употребляю это слово не в специально мистическом смысле, какой находим в «Розе Мира» Даниила Андреева; просто хочу сказать, что очень рациональный во всем, что касается «текстостроительства», Маканин, однако, первоначальный импульс улавливает из воздуха, из атмосферической ситуации, сгущающейся у него в галлюцинаторно-яркую картинку, картинку-зерно. Остальное – результат почти математической изобретательности; но «картинка»-то является ему сама, не спросившись. И в этом отношении умница Маканин – один из самых иррациональных, почти пифических истолкователей своего времени, медиум его токов. Может быть, о его переходных вещах последнего десятилетия века как о художественном факте говорить преждевременно: не все тут четко, ниточки спутаны, а кое-где и оборваны, – но спонтанное известие, которое сюда вложено, грех не расслышать немедленно, независимо от того, какое место впоследствии займет «Лаз» или «Сюжет усреднения» в литературной биографии их автора.
Если бы нужно было одним словом, одним знаком описать то, что открылось Маканину в новом состоянии жизни, я бы сказала: оползень. И пусть сам Маканин этим словом не воспользовался (нет, все-таки оно у него звучит – кажется, еще в «Утрате») – все равно, читая его, слышишь неостановимое сползание слоев жизнеобеспечения, пластов культуры в какую-то бездонную расщелину. В одном из рассказов цикла «сюр» говорится: лавина («предотвратить лавину…»). Но «лавина» это, так сказать, бурный финал оползня, до нее дело не дошло, пока ползет неприметно, легким шевелением как суживался лаз, в который предстояло ввинтиться бедняге Ключареву.
Там, где другие увидели революционный разлом, внезапный обвал старой жизни (плохой, но предсказуемой), Маканин обнаружил одну из многих фаз векового подземного процесса, чья кульминация, должно быть, еще впереди.
Конец 80-х и начало 90-х годов ознаменовались у нас литературными презентациями антиутопий. Сначала были прочитаны или перечитаны классические – не втихомолку, как прежде, а растиражированные ведущими журналами. Потом – написаны свои, опрокинутые как в проклятое прошлое, так и в рисующееся неутешительным будущее: «Записки экстремиста» А. Курчаткина, «Невозвращенец» А. Кабакова, «Новые робинзоны» Л. Петрушевской, «Омон Ра» В. Пелевина. Маканинский «Лаз» (1991) как будто сам собой встраивается в эту компанию; даже шел спор о сюжетных приоритетах, о сравнительных достоинствах параллельных сочинений. (Ясно, что Петрушевская дает никак не менее высокий литературный образец, нежели Маканин, но не в том дело.) А между тем посыл «Лаза» отличен от всего, что можно прочесть у рядом стоящих авторов.
У «соседей» Маканина бедствия, составляющие основу любого антиутопического сюжета, происходят от давления системы, вооруженной ложной идеей, или от ее катастрофического развала. Это наша вчерашняя система («тоталитарная»), и это наш сегодняшний ее развал. Человек задавлен бездушным монолитом, засыпан его обломками – в обоих случаях с ним приключилось некое (знакомое по опыту) событие социально-системного свойства. Ничего похожего в «Лазе» вы не найдете.
Погруженный в сумерки угрюмый город (наша Москва?) и райски-светлый подземный град, где так не хватает кислорода (она же?), не могли бы отторгнуться друг от друга в результате какого-то достопамятного политического катаклизма. Это медленное-медленное, из глубины времени идущее расползание по шву некогда единого народного тела. И это, конечно, философская аллегория, хоть и выполненная на уровне физической ощутимости, наоборотно подобная той, какую найдем в «Машине времени» Герберта Уэллса.
Не знаю, точно ли припоминал Маканин Уэллса, но он его окликнул. Там – беззаботно-изнеженные элои в наземных хоромах и каннибалы-морлоки в мрачных подземельях: биологический предел классового раскола общества, как виделось в преддверии нашего века английскому фантасту (еще не задумавшемуся тогда над усреднением, которое уничтожило классы в привычном смысле). Здесь – безнадзорная, бесструктурная, безуправная толпа на одичавшей и оскудевшей поверхности, – а под «высоким небом потолков», залитый сиянием великолепных светильников, подземный оазис цивилизации, где просвещенные люди слушают стихи и спорят о смысле жизни. Вот ответ конца XX века его началу: элои и морлоки поменялись местами; жизнь духа вытеснена под землю, где искусственный свет и удушье делают ее иллюзорной и обреченной, а масса (быть может, спасаясь от нее, и перебрались в свои катакомбы все эти светочи мысли) обезумела наверху, лишившись идейной закваски и какого бы то ни было целеполагания. Словно все тот же оползень, надвигается на улицы и площади наземного города вечерняя мгла, все смеркается и смеркается («наземные» сцены «Лаза» сплошь пронизаны напоминаниями о раз за разом сгущающихся сумерках), и никак не наступит ночь – уж лучше бы наступила: в эсхатологии, во встрече конца времен есть свое утешение и освобождение! Словно все та же лавина, накатывает толпа: «набегут и затопчут». Она катится невесть откуда и невесть зачем: «В совершеннейшей тишине откуда-то издали… возникает в воздухе шероховато плывущий звук. Этот звук ни с чем не сравним (хотя и принято сравнивать его со звуком набегающих волн, но схожести мало…). Звук особый. Звуки ударные и звуки врастяг, сливающиеся в единый скрежет и шорох, вполне узнаваемый всяким человеческим ухом издалека: толпа. Шарканье тысяч ног с каждой минутой приближается… Топот тысяч и тысяч ног заполняет, забивает уши… На них набегают… Толпа густеет, их начинает сминать, тащить… Лицо в лицо жаркое дыхание людей. Затмило. Вокруг головы, плечи, пиджаки… Рев и гул вокруг». (Случайно и почти безвыходно влившись в такую толпу на Садовом кольце в один из дней «прощания со Сталиным», могу засвидетельствовать, насколько безупречно у Маканина описание того, чего, возможно, он никогда не видел и не испытал.)