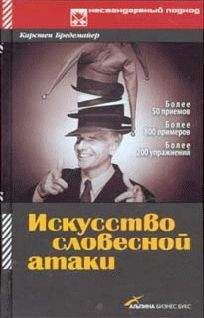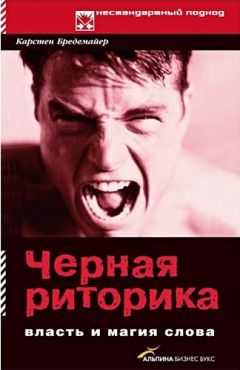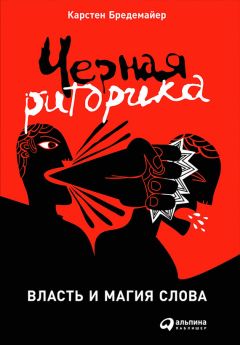Григорий Амелин - Письма о русской поэзии
Однако для Хлебникова, помешанного на исторических законах, игра в орла и решку – не область случайного. Вернее, подбрасывая монету, ты еще находишься во власти случая, но падающая монета уже во власти неумолимой закономерности. Если орел падает вниз, решка неминуемо должна одержать верх. Низвержение самодержавного орла почти фатально означает победу пагубной решки. Но для Хлебникова – это оборотная сторона той же самой медали. Переход события в свою противоположность, переворот самого революционного переворота – закономерный итог.
Сюжет «Ночного обыска» строится также и на полной противоположности, переворачивании смысла того основного события, которое за ним маячит – травестировании сюжета Тайной вечери. Все роли перераспределены шиворот навыворот, перед нами воистину Пир на пепле, «La Cena delle ceneri». Вечерю устраивают матросы, ужин превращен в попойку, пьяный пир на трупах. О цене жизни рассуждает моряк, повествуя о полном достоинства поведении офицера, с улыбкой встречающего смерть:
«Даешь в лоб, что ли?»
«Вполне свободно», – говорю.
Трах-тах-тах!
Да так весело
Тряхнул волосами,
Смеется,
Точно о цене спрашивается,
Торгуется.
Дело торговое,
Дело известное,
Всем один конец,
А двух не бывать. (I, 265–266)
Матрос, побежденный смехом убитого, желает точно так же «победить бога». Для чего он просит Христа на иконе убить его взглядом глаз, что скрывают «вещую тайну». Если пьяный моряк тоже засмеется, то все заплатят равную цену – за смерть. Такого искупления грехов он не получает, тогда икону он предлагает превратить в пепел, а затем вообще переводит Иисуса из мужского рода в женский и ернически предлагает ему променад по бульвару. Следующий переворот свершается, когда о пире огня, в котором погибнут все, возвещает именно безмолвный Христос с иконы. Торг закончен, цена жизни для всех едина – все гибнут в огне.
Десять лет спустя Пастернак откликается на хлебниковский «Ночной обыск».[82] Это стихотворение «Опять Шопен не ищет выгод…» (1931). У Пастернака звучащий рояль тоже летит к земле, сопровождаемый дождем огня. Процитируем весь текст:
Опять Шопен не ищет выгод,
Но, окрыляясь на лету,
Один прокладывает выход
Из вероятья в правоту.
Задворки с выломанным лазом,
Хибарки с паклей по бортам.
Два клена в ряд, за третьим, разом —
Соседней Рейтарской квартал.
Весь день внимают клены детям,
Когда ж мы ночью лампу жжем
И листья, как салфетки, метим,
Крошатся огненным дождем.
Тогда, насквозь проколобродив
Штыками белых пирамид,
В шатрах каштановых напротив
Из окон музыка гремит.
Гремит Шопен, из окон грянув,
А снизу, под его эффект
Прямя подсвечники каштанов,
На звезды смотрит прошлый век.
Как бьют тогда в его сонате,
Качая маятник громад,
Часы разъездов и занятий,
И снов без смерти, и фермат!
Итак, опять из-под акаций
Под экипажи парижан?
Опять бежать и спотыкаться,
Как жизни тряский дилижанс?
Опять трубить, и гнать, и звякать,
И, мякоть в кровь поря, – опять
Рождать рыданье, но не плакать,
Не умирать, не умирать?
Опять в сырую ночь в мальпосте
Проездом в гости из гостей
Подслушать пенье на погосте
Колес, и листьев, и костей.
В конце ж, как женщина, отпрянув
И чудом сдерживая прыть
Впотьмах приставших горлопанов,
Распятьем фортепьян застыть?
А век спустя, в самозащите
Задев за белые цветы,
Разбить о плиты общежитий
Плиту крылатой правоты.
Опять? И, посвятив соцветьям
Рояля гулкий ритуал,
Всем девятнадцатым столетьем
Упасть на старый тротуар. (I, 406–407)
Кроме падающего рояля Пастернак видит в хлебниковском тексте еще и то, чего, к сожалению, не видит Борис Кац. Видит потому, что это его тема – игра в орлянку. Она появляется у Пастернака рано и проходит через все творчество. В развитии этой темы Пастернак не менее разнообразен, чем Хлебников.
Пастернаковский повтор «опять, опять» – не дурная бесконечность торжества варварства над культурой, смерти и разрушения над жизнью, поскольку:
Опять Шопен не ищет выгод,
Но, окрыляясь на лету,
Один прокладывает выход
Из вероятья в правоту.
Выход из вероятья в правоту какого-то высшего одиночества, смерти и воскресения – удел истинного поэта и для Пастернака, и для Хлебникова. Умрешь – начнешь опять сначала, по словам Блока. Шопен здесь не имя автора, а имя содержания всякого подлинного искусства, умирающего и воскресающего. Божественная природа слова и заставляет рояль застыть «распятьем» – ферматой вечной жизни.
«Умри и стань», – по завету Гёте. Превращение незатейливой игры в орлянку в «рояля гулкий ритуал» Пастернак легко прочитал в «Ночном обыске», и, возвращаясь к нему от колобродящего пастернаковского стихотворения, мы начинаем понимать то, о чем у Хлебникова, казалось бы, нет ни слова, – об особой спасительной миссии поэта в мире.
ЗАКОН ПОКОЛЕНИЙ
Людмиле и Катерине Богословским
Когда я отроком постиг закат,
Во мне – я верю – нечто возродилось,
Что где-то в тлен, как семя, обратилось:
Внутри себя открыл я древний клад.
Так ныне, всякий с детства уж богат
Всем, что издревле в праотцах копилось:
Еще во мне младенца сердце билось,
А был зрелей, чем дед, я во сто крат.
Иван Коневской. «Наследие веков»Статью «Закон поколений» Хлебников опубликовал в 1915 году в своей брошюре «Битвы 1915–1917 гг. Новое учение о войне». Основная мысль ее была незамысловата: в борьбе за истинную веру встречаются люди, которых разделяет (по году рождения) 28 лет. Этот арифметический текст – единственное прямое свидетельство непосредственного знакомства Хлебникова с наследием Одоевского, но сейчас речь не об идеях – об именах. Определяющим мерилом личности творца Хлебников безоговорочно признает «веру» – в высшую судьбу отечества. Хотя вера Одоевского слегка «усталая», он такой же священный столп истины, как и суровый Тютчев. Их объединяет цифра «1803» – единый год рождения, предопределивший создание ими «вершин величавой веры». Но не только. Роднит их тайна имен. Вот тут-то высокая нота похвалы потомка-Хлебникова дает курьезный сбой, вызывающий недоумение читателя: «Истина разно понимается поколениями. Понимание ея меняется у поколений рожденных через 28 лет (.). Для этого берутся года рождений борцов мыслителей, писателей, духовных вождей народа многих направлений, и сравнивая их, приходишь к выводу, что борются между собой люди рожденные через 28 лет, т. е. что через это число лет истина меняет свой знак и силачи за отвлеченныя начала выступают в борьбу от поколений, разделенных этим временем. Напр[имер]. Уваров 1786 и Бакунин 1814, Грановский 1813 и Писарев 1841. (…)
Не менее странен ряд Каченовский (I), Одоевский, Тютчев (I), Блаватская – 1775, 1803, 1831. Суть этого ряда вершины «величавой веры» и «жалкого неверия» в Русь. Каченовский как ученый противник Карамзина отвергал подлинность киевских летописей и «русскую правду». Это высшие размеры научного сомнения кем-либо когда-либо проявленные. И Тютчев пришедший через 28 лет во имя священного обуздал рассудок и указал сомнению его место.
Итак не оттого ли Тютчеву присуща высокая вера в высокие судьбы России (известные слова: «умом России не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать – в Россию можно только верить»), что за 28 лет до него жил Каченовский и не к Каченовскому ли обращены эти гневные слова? «У ней особенная стать – в Россию можно только верить»!
Конечно Тютчев и Одоевский должны были родиться в одном году. На это указывает особая более не встречающаяся тайна имен. В этом уходе на остров веры спутником Тютчеву был и Одоевский. Тютчеву и Одоевскому должно быть благодарными за одни их имена. Имена Тютчева и Одоевского может быть самое лучшее что они оставили. Странно что «Белая ночь» звучало бы настолько плохо, насколько хорошо «Белые ночи». Белыми ночами как зовом к северному небу скрыто предсказание на рождение через 28 Бредихина, первого русского изучавшего хвостатые звезды, и брошено указание на родство 2-го знания с звездным.
Блаватская – перенесение предания Тютчева в Индию, а Козлов (1831) дал высший уровень смутной веры. В бегстве от запада Блаватская приходит к священному Гангу. Этот ряд может быть назван рядом угасания сомнения, так как на смену Каченовскому приходят люди, те кто, то – устало как Одоевский, то с оттенком строгого долга как Тютчев, то пылко как Блаватская верят большему и в большее чем средние люди» (V, 428–429).
При всей любви к историософской выделке родных шкурок и зверском аппетите к крабовому мясу магических чисел, Хлебников душой болеет все-таки не за них. Вершина северного неба, особенная стать отчизны – ее язык, русское слово. Вера зиждется на нем.