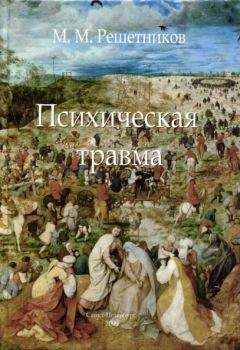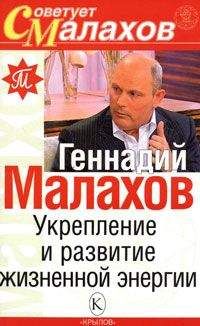Ю. Лебедев. - История русской литературы XIX века. В трех частях. Часть 1 1800-1830-е годы
Тему подхватывает А. Ф. Мерзляков (перевод Второй оды Тиртея, 1805):
Какая слава, радость, честь
За жен, за милых чад
На брань кипяще сердце несть
И погибать стократ!
Ф. Н. Глинка в стихах «Военная песнь, написанная во время приближения неприятеля к Смоленской губернии» (1812) поэтизирует массовую жертвенность героев – защитников Отечества:
И всех, мне мнится, клятву внемлю:
Забав и радостей не знать,
Доколе враг родную землю
Престанет кровью обагрять!
Там друг зовет на битву друга,
Жена, рыдая, шлет супруга,
И матерь в бой – своих сынов!
Жених не мыслит о невесте,
И громче труб на поле чести
Зовет к отечеству любовь!
Мотив жертвенности в гражданской лирике начала XIX века, противопоставленный оптимистическому и упрощенному взгляду французских просветителей на природу человека, все чаще приобретает черты христианского самопожертвования. Отсюда – библейская окрашенность образа героя, прямая связь его с русской житийно-церковной культурной традицией. Осмеяние христианских этических идеалов было боевой программой французских просветителей («Орлеанская девственница» Вольтера). «В России, – писал Ю. М. Лотман, – вопрос осложнялся в значительной мере тем, что церковная литература воспринималась как традиция национального искусства. Ломоносов предпринял попытку построить стиль новой русской литературы, синтетически соединив художественное наследие прошлого („церковные книги“) и современные ему нормы национального языка… Особый смысл получил интерес к древнерусской и церковной литературе в начале XIX века. Стремясь противопоставить этике наслаждения поэзию подвига, радостной гибели, литератор тех лет обращался к библейской и древнерусской житийной традиции. Стилистика библеизмов вносила в поэзию атмосферу высокого подвига. Античные и героико-библейские образы воспринимались не как противоположные, а в качестве вариантов одного и того же героического идеала».
В творчестве поэтов гражданского направления героическая тема нередко сопровождается грозными сатирическими инвективами, направленными против тиранов и временщиков. Стихотворение Н. И. Гнедича «Перуанец к испанцу» (1805), проникнутое политическими аллюзиями и широко распространявшееся в декабристской среде, содержит прямой призыв к борьбе с тиранией:
Иль мыслишь ты, злодей, состав мой изнуряя,
Главу мою к земле мученьями склоняя,
Что будут чувствия во мне умерщвлены?
Ах, нет, – тираны лишь одни их лишены!…
Хоть жив на снедь зверей тобою я проструся,
Что равен я тебе… я равен? Нет, стыжуся,
Когда с тобой, злодей, хочу себя сравнить,
И ужасаюся тебе подобным быть!
Я дикий человек и простотой несчастный;
…
Ты просвещен умом, а сердцем тигр ужасный.
И не толпы рабов, насильством ополченных,
Или наемников, корыстью возбужденных,
Но сонмы грозные увидишь ты мужей,
Вспылавших мщением за бремя их цепей.
Мастер политической сатиры М. В. Милонов предвосхищает в своем стилизованном под античность послании «К Рубеллию. Сатира Персиева» (1810) образно-стилистический строй сатиры К. Ф. Рылеева «К временщику». Ссылка на античный образец здесь употреблена для усыпления бдительности цензуры. У римского поэта Персия такой сатиры нет:
Царя коварный льстец, вельможа напыщенный,
В сердечной глубине таящий злобы яд,
Не доблестьми души, пронырством вознесенный,
Ты мещешь на меня с презрением свой взгляд!
Адресат этой сатиры тот же самый, что и у Рылеева, – любимый и обласканный Александром I временщик Аракчеев. Создавая свою сатиру «К временщику», Рылеев даст ей подзаголовок «Подражание Персиевой сатире „К Рубеллию“», тоже употребленный для отвода глаз и одновременно отсылающий читателя к стихотворению Милонова.
В гражданской поэзии начала XIX века предвосхищаются многие поэтические открытия пушкинской поры. Так, «Гимн негодованию» А. X. Востокова, являющийся переводом «Гимна Немезиде» греческого лирика Месомеда, отзовется в стихотворении «Негодование» П. А. Вяземского, а потом и в пушкинской «Деревне». Вольные переводы из «Фарсалии» Лукана Ф. Ф. Иванова повлияют на юного Пушкина – автора лицейского стихотворения «Лицинию».
В русской гражданской поэзии начала XIX века существует и другое течение, тоже ориентирующееся на традиции французского классицизма и Просвещения и тоже окрашенное предромантическими веяниями. Рядом с лирикой, пронизанной идеями героического аскетизма, развивается лирика, отстаивающая стремление к личному счастью, радости, наслаждению. Ее главою оказывается К. Н. Батюшков в первый период его творчества.
«Если тираноборческая гражданская поэзия реализовывала себя в сравнительно узком круге тем и жанров, – утверждает Ю. М. Лотман, – то лирика второго типа отличалась большим разнообразием, вмещая в себя широкий круг произведений от условно-античных идиллий до дружеских посланий и любовной поэзии. Сюжетная широта сочеталась здесь с определенной идейной диффузностью – поэзия этого типа легко переходила в лирику “карамзинистов“. Тогда тема счастья, любви, полноты жизни начинала восприниматься как некий иллюзорный поэтический идеал, возможный лишь в мечтах, противостоящих хаосу действительности». Если поэзия героической гражданственности предвосхищала романтическую лирику декабристов, то умеренное крыло второго направления (К. Н. Батюшков и поэты его круга), испытывая сильное воздействие субъективизма карамзинской школы, способствовало формированию стиля «гармонической точности» и сыграло решающую роль в формировании творчества молодого Пушкина.
Школа Жуковского и Батюшкова занимала в русской поэзии начала XVIII века лидирующее положение. Именно она осуществила полное преобразование языка поэзии. Выполнить эту роль оба поэта смогли, опираясь на карамзинскую реформу. В «Заметке о сочинениях Жуковского и Батюшкова» (1822) П. А. Плетнев писал: «Мы видели, что истинная поэзия никогда не дичилась угрюмого отечества нашего. Начиная с XII до конца XVIII столетия она то реже, то чаще оживляла лиры наших песнопевцев, хотя разными, но равно пленительными звуками. У нас недоставало только решительной отделки языка. Всеобъемлющий Ломоносов, отважный Петров и неподражаемый Державин обогатили словесность нашу высокими, может быть, единственными произведениями поэзии, но не победили своенравного языка» (курсив мой. – Ю. Л.). С царствования Александра I начался новый период русской поэзии. «В этот период появились два человека, которые совершенно овладели» ее „языком“, – Жуковский и Батюшков».
Слово в поэзии Батюшкова и Жуковского начинает говорить не только своим прямым предметным, вещественным значением, но и теми ассоциативными смыслами, которые «разбудил» в нем поэт для выражения индивидуального состояния, не имеющего в языке прямого обозначения или наименования. Таковы метафоры Жуковского «неволя золотая», «сладкая тишина», «семья играющих надежд», «уже бледнеет день», «как слит с прохладою растений фимиам», «страшилищем скитается молва». Метафора и эпитет начинают фиксировать подчеркнуто субъективные оттенки индивидуального мировосприятия. «Эпитет в традиционном значении поэтического тропа исчезает в эпоху романтизма, – замечает В. М. Жирмунский, – и заменяется индивидуальным, характеризующим определением». Прямое, предметное значение слова обволакивается, как облаком, многочисленными ассоциациями, приобретает многозначный поэтический подтекст, звучит, как музыка, не только прямыми, но и побочными своими значениями, обертонами (полисемантизм), в том числе и такими, какие придает ему сам автор в поэтическом контексте своего произведения (поэтическая этимология).
Вслед за перестройкой образной системы решительно изменяется и система жанров в новой поэзии. На смену «высоким» поэтическим жанрам классицизма (ода, гимн) на первый план литературного процесса выходят «малые» жанры: дружеское послание, элегия, сатира, баллада, песня, романс. При этом совершается глубокая перестройка внутри жанров: исчезает резкая граница между гражданско-ораторскими и интимно-лирическими жанрами, свойственная поэтике классицизма. «Высокое» содержание начинает проникать в элегию (Батюшков – «На развалинах замка в Швеции», 1814) и дружеское послание (Батюшков – «К Дашкову», 1812), интимно-лирическая тема соединяется органически с темой патриотической, гражданской (А. Ф. Мерзляков – переводы од Тиртея, 1805; Жуковский – «Певец во стане русских воинов», 1812). За этим стоит рост личностного самосознания, индивидуальным лиризмом окрашиваются и гражданские, патриотические чувства, обретающие несвойственную им в классицизме полноту и теплоту. Одновременно с этим нравственные искания, интимные чувства и переживания личности начинают обретать общественную значимость, выходят «из тени», из периферийных жанров классицизма на первый план литературного развития.