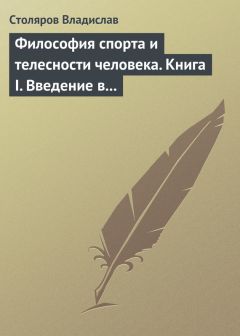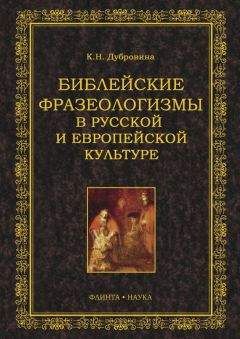Владимир Фещенко - Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве
Поэтика «формальной школы» (МЛК и ОПОЯЗ) поставила во главу угла своей методологии лингвистический подход, что объяснялось фактами предшествующей и современной для них научной теории («языковой поворот»). Так, с одной стороны, огромное влияние на «формалистов» оказали идеи основателей теоретической лингвистики (В. фон Гумбольдта, В. Вундта, A. A. Потебни, Ф. Ф. Фортунатова, И. Бодуэна де Куртенэ). С другой, в связи с общими революционными изменениями в науке начала XX в. в филологии также наблюдался теоретико-методологический сдвиг: господство философско-эстетической и социологической эссеистики сменяется формулами строго лингвистического описания (в этом случае для «формалистов» оказались конструктивно-концептуальными, с одной стороны, теоретико-грамматические представления Ф. Ф. Фортунатова и его школы и, с другой стороны, идеи Бодуэна де Куртенэ и Фердинанда де Соссюра о системно-структурной организации языка). Немаловажным обстоятельством является также то, что идеологи формальной поэтики в своей установке на «воскрешение слова» (В. Шкловский), на описание живых фактов словесного искусства, ориентировались на современный им эксперимент в художественной жизни. Характерны признания Р. Якобсона: «Направляли меня в моих поисках опыт новой поэзии, квантовое движение в физике нашей эпохи и феноменологические идеи <…>». Путь к пониманию структурности языка был пройден не без внимания к авангардным техникам Пикассо и Брака, «придававших значение не самим вещам, но скорее связям между ними» [Якобсон 1996]; «Нас одинаково звали вперед дороги к новому экспериментальному искусству и к новой науке – звали именно потому, что в основе и того, и другого лежали общие инварианты» [Якобсон 1999: 80], см. также: [Янгфельдт 1992; Pomorska 1968; Language, Poetry and Poetics 1987]. Вырисовывался единый фронт науки, искусства, литературы, богатый новыми, еще не изведанными ценностями будущего.
Важной вехой в становлении лингвистической поэтики стала концепция поэтического языка Р. Якобсона. Она, в свою очередь, основана на выделении особой «поэтической функции языка»[6], связываемой Якобсоном с «установкой на выражение» в поэтической речи, с «направленностью (Einstellung) на сообщение как таковое, сосредоточением внимания на сообщении ради него самого» [Якобсон 1975: 202]. Сходным образом подходит к этому вопросу другой представитель «формальной школы» – Л. П. Якубинский – причисляя самоценность речевой деятельности к существенным сопутствующим признакам поэтического высказывания. Предлагая классифицировать явления языка «с точки зрения той цели, с какой говорящий пользуется своим материалом», он различает систему «практического языка, в которой языковые представления (звуки, морфологические части и проч.) самостоятельной ценности не имеют и являются лишь средством общения», и систему языка поэтического, в которой «практическая цель отступает на задний план и языковые сочетания приобретают самоценность» [Якубинский 1919: 37]. На основании новейших фонетических и фонологических исследований Л. П. Якубинский, О. М. Брик, С. И. Бернштейн и Е. Д. Поливанов рассматривают поэтический язык с точки зрения обнаружения в нем особых лингвистических закономерностей.
По Р. Якобсону, «поэтическая функция предполагает интро-вертивное отношение к вербальным знакам как единству означающего и означаемого и является доминантой в поэтическом языке, который нуждается в особенно тщательном лингвистическом анализе <…>» [Якобсон 1987]. Исходя из этого тезиса, формальная школа выдвинула на первый план проблему «грамматики поэзии» (см. [Шапир 1987]), т. е. особым образом организованной структуры поэтического языка. Хотя какой-либо цельной теории поэтического языка «формальной школой» разработано не было, в целом, как отмечает О. Г. Ревзина, «выделение поэтической функции имело для лингвистической поэтики столь же фундаментальное значение, что и постулаты знаковости и системности» [Ревзина 1998: 12]. Новым словом в науке стала трактовка поэтической речи не просто как стилевой разновидности языка, а как качественно иного состояния языка («<…> поэтичность – это не просто дополнение речи риторическими украшениями, а общая переоценка речи и всех ее компонентов» [Якобсон 1975: 228]). Тем не менее нельзя не согласиться с утверждением, что «прямой переход от поэтической функции, как она определена Р. Якобсоном, к поэтическому языку как „системе возможностей“ оказался неосуществимым» [Ревзина 1998: 12]. Для этого необходимо было осознание качественного различия между поэтическим и естественным языком, а также углубление в специфику художественной речи как особой знаковой системы.
* * *Еще несколько шагов вперед по пути понимания поэтического языка как особой системы было сделано В. М. Жирмунским и Г. О. Винокуром. Разграничивая два типа речи – научную и родственную ей практическую, с одной стороны, и поэтическую, с другой, – Жирмунский констатирует, что, в противоположность первым двум типам, «язык поэзии построен по художественным принципам; его элементы эстетически организованы, имеют некоторый художественный смысл, подчиняются общему художественному заданию» [Жирмунский 1919: 37]. В отличие от «формалистского» подхода, здесь поэтический язык определяется уже не функционально, а интенционально. Отсюда в терминологическом словаре Жирмунского возникают понятия типа «художественного упорядочения», «художественной телеологии», «внутренней телеологической структуры языковой формы» и т. п. Поэтика в его понимании должна быть наукой, изучающей поэзию как искусство, а любое стихотворение – как эстетический объект с языковой структурой.
Г. О. Винокур придерживается похожей точки зрения, выясняя отношения между лингвистикой и поэтикой: «Правильное расчленение поэтической структуры и есть, собственно говоря, решение задачи о предмете поэтики: интерпретировать отдельные члены этой структуры поэтика может по-своему – до этого нам пока нет дела, – но научиться отыскать их, увидеть их она может, очевидно, только у лингвиста» [Винокур 1925: 167]. Однако, оговаривает он, это не значит, что «поэтика есть „часть“ или „отдел“ лингвистики <…> Совпадение схем этих свидетельствует лишь об одном: принципы, с помощью которых группирует свой материал поэтика, суть те же принципы, что и в лингвистике <…> все эти отдельные структурные моменты в поэзии будут, очевидно, иметь совершенно иное качество, иную функцию и иной смысл, чем в слове вообще» [Там же: 166–167]. Таким образом, Г. О. Винокур добавляет к функционалистской теории поэтического языка «формалистов» важные элементы: соображение об иной качественности поэтического языка по сравнению с практическим и мысль об особой семантике художественного слова. Между тем он все же не делает решающего шага: от выделения «отдельных структурных моментов» художественной речи с их особыми параметрами – к установлению того специфического структурного целого, которое представляет собой поэтический язык. Приблизиться к такому принципиальному пониманию удается в 1920—30-е гг. таким разным авторам, как Г. Шпет, Б. Энгельгардт, М. Бахтин и В. Виноградов. С различных дисциплинарных позиций – Шпет со стороны философии, Энгельгардт со стороны литературоведения, Бахтин со стороны эстетики словесного творчества, Виноградов со стороны лингвистики – указанные исследователи приходят к сходным выводам, относящимся к проблеме художественного (поэтического) языка.
* * *Необходимо отметить, что научное наследие Г. Г. Шпета далеко не в достаточной степени освоено лингвистической наукой, так же как гораздо большего признания заслуживает его вклад в лингвистическую поэтику и художественную семиотику. Это обстоятельство побуждает нас остановиться на его воззрениях более подробно, тем более что они имеют значимость и конкретно для нашей темы.
Г. Г. Шпет был первым среди русских гуманитариев, кто сознательно стал заниматься проблемой знака в философском и художественном контексте[7]. Значимость идей Шпета для русской лингвистики, герменевтики и семиотики вполне сопоставима с ролью Ф. де Соссюра и Ч. С. Пирса в западной традиции языковой теории. Он не только одним из первых в русской литературе упомянул термин семиотика (под которым понимал «онтологическое учение о знаках вообще»), но и явился автором оригинальных работ по теории знака, смысла и понимания. Среди них упомянем монографию «Язык и смысл», написанную в середине 1920-х гг.[8]; работу под названием «Герменевтика и ее проблемы», а также философское исследование «Явление и смысл».
Густав Шпет был первым русским философом, давшим детальное обоснование необходимости исследования знаков как особой сферы научного знания и изложившим принципы семиотического и герменевтического подхода к ней (ср. с более поздними – 1920-х гг. – исследованиями В. Н. Волошинова в области «идеологического знака» [Волошинов 1929], см. также указанную выше работу И. Агеевой). Впервые слово «семиотика» появляется у Г. Шпета в 1915 г. в статье, которая затем преобразуется в третью главу «Истории как проблемы логики»[9]. Рассуждая о том, как осуществляется историческое познание, он пишет: «<…> историческое познание никогда не является познанием чувственным или рассудочным или познанием внешнего, или внутреннего опыта, а всегда есть познание, предполагающее уразумение или интерпретацию как средство уразумения. Такого рода познание можно условиться назвать семиотическим познанием»[10]. Уже в этой ранней работе он высказывает мысль о том, что логика не способна адекватно обращаться с историческими понятиями, ибо последние подлежат ведению особого «семиотического познания», которое требует своей особой методологии. Логика исторического понятия, рассматриваемого как некоторый выраженный смысл, в сущности, утверждает он, должна быть семиотической дисциплиной. Значение исторического понятия – само по себе уже знак, который может быть расшифрован только посредством особого рода герменевтики.