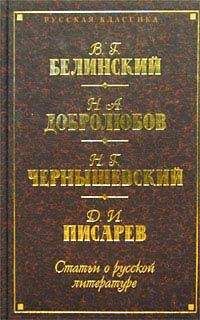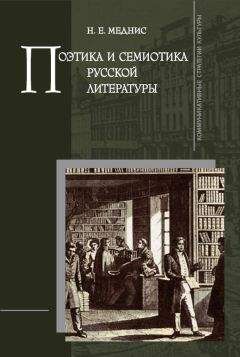Сергей Бочаров - Филологические сюжеты
(И надо бы в заключение хотя бы в скобках – или, может быть, на полях уже не пушкинской лирики, а нашего о ней размышления, – объясниться по поводу этого сильного слова, каким мы здесь пользуемся, – преображение. В христианской философии это большое слово, говорящее о просветлении мира как цели нашей жизни и всего мирового процесса. Так по праву ли мы прибегаем к нему, говоря всего—навсего о лирическом стихотворении вполне светского содержания? Но, не касаясь уже искусства в его полноте, лирическое искусство не есть ли особая сила подобного просветления нашего существования, свет, который во тьме нашей жизни нам светит? Свет – «сверхматериальный, идеальный деятель», дал ему сто лет назад прекрасное определение Владимир Соловьёв.[65] Попробуем определение это занять у философа, чтобы сказать про лирику – может быть, она в большом кругу искусства, как и музыка, наиболее идеальный деятель. И действует в мире лирическом этот деятель разнообразно – и улыбкой нежной любви, и энергией заступничества за человеческую душу, защитой. И не заказано большое религиозное слово филологу в его погружении в лирический мир во всей его конкретности. Обращение – одна из форм нашей речи, которой в речи лирической принадлежит, наверное, роль особенная; это, может быть, вообще её ключевая фигура, ведь пафос лирики – мир во втором лице. … Жизнь, зачем ты мне дана? Это ведь тоже предмет обращения у того же поэта в том же 1828 году. Так что есть прямой путь от фигуры поэтики к высшей лирической цели: композиционная форма лирической речи и есть её конкретная сила, проводник того света, какой приносит лирика в наше существование.)
О жёны Севера, меж вами…
Всё же мне вас жаль немножко…
1965, 2003
О смысле «Гробовщика»
Я знаю, что анализировать этого нельзя, но это чувствуется и усваивается.
Толстой о «Повестях Белкина»[66]
1
Предлагаемая статья представляет собой попытку «прочитать» одну из пушкинских «Повестей Белкина». В пушкинской критике всегда была камнем преткновения интерпретация этих простых повестей. Всегда считаясь «простыми», они тем не менее стали объектом непрекращающихся истолкований и приобрели в литературоведении репутацию загадочных. Вокруг «Повестей Белкина» в критике создалась ситуация, которую предупредил сам Пушкин своей пародией:
Больше ничего
Не выжмешь из рассказа моего.
По поводу «Повестей Белкина» вспоминали эту концовку «Домика в Коломне» (а Б. М. Эйхенбаум, как мы увидим, принял эту пушкинскую «мораль» как теоретически отправной пункт своего анализа «болдинских побасенок Пушкина»).
Владислав Ходасевич, однако, заметил об этой «на первый взгляд шуточной, но пожалуй – многозначительной строфе» болдинской поэмы: «В этом предложении – ничего больше не „выжимать“ из рассказа – есть гениальное лукавство. Именно после таких слов читателю хочется „выжать“ больше, чем это сделал сам поэт».[67] Очевидно, подобным образом обстоит дело и с «Повестями Белкина».
Всякий, кто пробовал пересказать эти повести аналитически, выделяя («выжимая») их основное значение, знает, как трудно оказывается это сделать. Кажется, что их можно, по слову Пушкина, «просто пересказать» – и только.
Рассчитанные как будто на простое нерасчленённое восприятие, «Повести Белкина» тем не менее побуждают к интерпретациям. И они поистине представляют собой пробный камень литературоведческой и критической интерпретации, который, как сказано, всегда был камнем преткновения. Исследователи стремились за простым текстом прочитать скрытый смысл. В своё время М. Гершензон предложил аналогию между чтением пушкинской повести и разгадыванием загадочной картинки.
В статье о «Станционном смотрителе» М. Гершензон писал: «Иное произведение Пушкина похоже на те загадочные картинки для детей, когда нарисован лес, а под ним написано: где тигр? Очертания ветвей образуют фигуру тигра; однажды рассмотрев её, потом видишь её уже сразу и дивишься, как другие не видят… Идея нисколько не спрятана, – напротив, она вся налицо, так что всякий может её видеть; и однако все видят только лес».[68]
Предложившим это уподобление критиком руководило то чувство, что простой рассказ пушкинской повести «значит» что—то, о чём—то нам говорит, что повесть не просто равна своему тексту, но имеет некоторый «второй план» своего истинного значения, который, однако, неразличимо слит с первым планом простого рассказа – с «очертаниями ветвей» в гершензоновской аналогии. Метод разгадывания, обоснованный Гершензоном, и есть характернейший метод критической интерпретации. И, кажется, «Повести Белкина» в особенности обрекают гадать о их смысле. Однако разгадывание Гершензоном пушкинских повестей как раз показывает, насколько недостоверен этот метод, притом особенно по отношению к таким произведениям, как пушкинские повести. Что получается у Гершензона? «Очертания ветвей», т. е. самый текст повестей, не имеют самостоятельного значения, а только служебную функцию, одновременно скрывая и содержа в себе, по существу, ничего общего не имеющую с ними «фигуру тигра», будучи лишь «обманными деревьями»; так, вступление о станционных смотрителях в разгадываемой критиком повести «усыпляет читателя», чтобы затаить от него «идею». В подобном истолковании повесть становится иносказанием аллегорического характера. Интерпретации Гершензона возникли в атмосфере воздействия русского символизма начала XX века и стремились открыть «символический замысел»[69] «Станционного смотрителя» и «Метели», однако истолкование: «Жизнь – метель, снежная буря (…) такова жизнь всякого человека…»[70] – скорее аллегорическое, нежели символическое. «Идея» «Станционного смотрителя» в разгадке Гершензона (старый смотритель наказан за доверие к ходячей морали, выраженной в немецких картинках на тему о блудном сыне; тирания ходячей морали – «вот мысль, выраженная Пушкиным в „Станционном смотрителе“») также очень бедна по отношению к полноте нашего впечатления от этой повести. «Идея» именно выжата, а не раскрыта, значение повести не прочитано, а скорее вычитано.
Более тонко рассматривал два плана «Повестей Белкина» В. С. Узин: «Эти маленькие незатейливые „истории“ обращены одной своей стороной, своей твёрдой корой, к Митрофанушке, к „беличьему“ мироощущению Белкина, а ядром своим – к взыскательному, грустному созерцателю жизни. Самое явление жизни и тайный смысл её здесь слиты в такой мере, что трудно отделить их друг от друга».[71] «Митрофановский» интерес воспринимает в повестях «голую фабулу с её плавным разворачиванием», которая для Митрофана «довлеет себе самой»: «чисто внешний покров событий, механическое сцепление действий он предпочитал их внутренней телеологической связи».[72]
Современная Пушкину критика восприняла повести с «мит—рофановской» их стороны: «Ни в одной из Повестей Белкина – нет идеи. Читаешь – мило, гладко, плавно; прочитаешь – всё забыто, в памяти нет ничего, кроме приключений. Повести Белкина читаются легко, ибо они не заставляют думать».[73] «Потерянная для света повесть» Сенковского, за подписью А. Белкин,[74] пародировала как бы отсутствие содержания в «Повестях Белкина». Во время дружеского обеда один из участвующих рассказал историю, из которой слушатели сумели запомнить только первые слова: «Вот именно один такой случай был у нас по провиантской части». Рассказчик по просьбе слушателей повторил свою повесть, но и после этого её оказалось невозможно удержать в памяти. Так оказалась потеряна для света повесть.
С одной стороны, таким образом, в повестях нет ничего, кроме приключений, но в то же время и самое приключение, как какое—то ничтожное, можно забыть. Не только «идеи» нет, но и «митрофановский» интерес к голой фабуле не получает настоящего удовлетворения. Так в непосредственных реакциях критики отражался тот факт, что и фабула в «Повестях Белкина» не является самоцелью, не «довлеет себе самой».
Молодой Белинский писал в 1835 г. в «Молве»: «Правда, эти повести занимательны, их нельзя читать без удовольствия; это происходит от прелестного слога, от искусства рассказывать (con—ter); но они не художественные создания, а просто сказки и побасенки».[75] Белинский низко оценил «Повести Белкина», но его отрицательная характеристика интересна своей проблемностью. Он последовательно—односторонне воспринял действительную интенцию, в них заложенную, «белкинскую» природу повестей: ведь они действительно искушают читателя своей простотой и предлагают себя рассматривать как «просто сказки и побасенки»;[76] но для Белинского это значило – «не художественные создания».