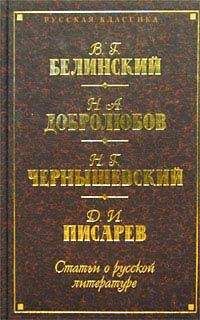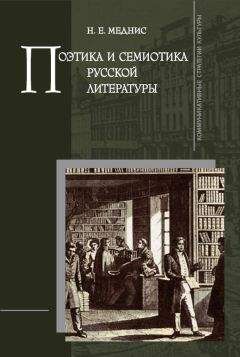Сергей Бочаров - Филологические сюжеты
С. Д.: Знаете, всё же было как бы разочарование, это был не рыцарь на белом коне. Приехал сломленный человек, который всего боялся, а главное – не хотел вспоминать, маму не хотел видеть, прежняя жизнь была нереальной, и он её отрезал. Когда позднее приезжал в Чехословакию на похороны родителей, с матерью и с друзьями видеться не захотел. Бабушка, мать его, Давыдова—Звегинцева, приезжала потом к нему в Мелитополь, привезла его любимую флейту – он к ней не притронулся. Бабушка привезла и портреты свой и деда, его отца, он при ней повесил, а когда она уехала, снял – не хотел, чтобы дочери знали, кто он и откуда. И мне запретил говорить про лагерь – чтобы девочки не знали. (А мы ведь по отцу потомственные дворяне, связанные с Давыдовыми начала XIX века, и бабушка Зве—гинцева всегда была не совсем довольна браком отца – я говорю о первом браке, в Праге, откуда я: считала, что сын её женился на дочери разночинца Бема, да ещё в прошлом эсера, т. е. революционера). Надо сказать, что я ещё раз потом писал Хрущёву, когда после 8–го класса не принимали в старшую школу, в гимназию. (Тут, когда Сергей стал рассказывать этот эпизод, младший брат его Андрей, подошедший к разговору, включился и стал его поправлять, потому что он маленьким присутствовал при эпизоде, и дополнять то, что брат забыл). Пошёл на почту и подал письмо с тем же адресом: Москва, Кремль, Н. С. Хрущёву. Почтовая девушка прочитала, посмотрела на меня и вышла. Её долго не было, приоткрылась дверь и оттуда начальник почты выглянул, посмотрел тоже. Потом письмо приняли, но мать вызвали в местную полицию: – Почему ваш сын позволяет себе писать Никите Сергеевичу? А мать: – А мой сын личный друг Хрущёва. Тут меня уже стали бояться, в гимназию приняли и направили в Прагу, в школу высшей торговли, это вроде вашего МГИМО, потом уже Хрущёва не стало, а я перешёл на философский факультет Карлова университета и учился там в 1964–1968, это были уже хорошие, довольно свободные годы, уже готовилась Пражская весна. А потом пришла она, мать уже летом 68–го была уверена, что вторжение будет и перебралась с детьми в Югославию, а потом в Германию. А я не верил, а потом было 21 августа на моих глазах, я был дома в Жилине. А когда в сентябре поехал в Прагу, то ко мне пришли двое в штатском, вежливо: – Вы нам нужны, хорошо говорите и по—русски, и по—чешски, поработайте у нас на радиостанции Влтава, она обслуживала вторжение. Я понял, что надо бежать, и попросил подумать. – Хорошо, мы вернёмся. На следующий день – двое уже в форме и говорили другим тоном: – От вашего решения зависит: ваши сёстры в Мелитополе поступают в институт, и от вас зависит их судьба. Сёстры в Мелитополе! Я ещё раз: – Можно ещё подумать? В тот же день – в Жилину, взять кое—что, потом в Братиславу и ночью перешёл Мораву вброд, хотя чешские пограничники на западной границе, как правило, тех, кто уходил, пропускали. Но я ушёл через реку. Потом учился в Германии, потом попал в Америку и там осел. Вот моя Одиссея.
Что в результате этого было с сёстрами в Мелитополе, поступили ли в институт – я забыл Сергея спросить.
Через несколько дней Анастасия Васильевна Копшивова привела нас с Милуше Задражиловой и Сергеем Давыдовым на Ольшанское русское кладбище, где лежит эмиграция. Первые могилы: П. И. Новгородцев – основал русский юридический факультет при университете в Праге. А. Т. Аверченко, А. А. Ки—зеветтер – памятник на его могиле работы А. С. Головина – мужа поэта Аллы Штейгер—Головиной, из бемовского «Скита поэтов». А. В. говорит, что есть и бюст Бема работы Головина, он в частных руках, и его никто не видел. П. Н. Савицкий, бывший директором русской гимназии в Праге, его увезли тоже в 45–м, 10 лет отсидел в СССР, вернулся и затем посидел ещё раз уже здесь за стихи, изданные в Париже. Михаил Васнецов, отец Михаил, сын художника Виктора Васнецова, был математиком, стал священником. С. Д.: – Он меня крестил в 1945–м в подвале профессорского дома на Бучковой улице, там была русская церковь, и сейчас она там. А сын его Виктор это были друзья с отцом, и тоже его увезли в 45–м. Он потом обосновался в Киеве. А. В.: – Да, они по спискам работали (СМЕРШ), успели за 6 недель почти всю русскую Прагу выловить. А вот это был сотрудник русского заграничного архива, и обратите внимание – дата более поздняя: Николай Петрович Цветков, и на памятнике написано: проживал в Праге до 14.6.1946. Когда передавали архив в Москву, он его готовил к передаче, его приглашали в советское посольство, очень благодарили, хотели премировать деньгами, он отказался, а вскоре потом забрали. Было также много галлипо—лийских, лемносских крестов, остался только один, в 1945–м их свинчивали. Есть фотография: о. Сергий Булгаков держит речь над галлиполийской могилой, а русская церковь, которую вы видите, ещё готова только на половину. Вот ряд (обращаясь к Давыдову), если бы ваш дед остался в живых, он был бы здесь, это был почётный ряд.
Почти в эту минуту к нашей группе подошёл пожилой человек, Владимир Алексеевич Гавринёв из их общества, и первое, что он сообщил, всех взволновало очень: он нашёл в заметках священника, обнаруженных им в архивах Митрополичьего совета, запись о том, что А. Л. Бем похоронен здесь в мае 1945 г. на участке 19 в районе могилы 405. Стали искать, но номера могил очень стёрлись, и точно трудно было определить, но с того места примерно Сергей Давыдов взял горсть земли. Если это так – а в это сразу поверили – то, значит, его не увозили в лагерь в СССР, и он умер в Праге тогда же. Три существующих версии: выбросился из окна одной из пражских вилл, занятых СМЕРШ'ем, был расстрелян в тюрьме на Панкраце, был увезён в лагерь. Сергей рассказывает, что видел бумагу, подписанную якобы им уже в августе 45–го, но скорее всего это не его почерк. В следующие дни были высказаны сомнения и в новой версии о записи священника: она должна быть опубликована и исследована, если он был похоронен здесь, то как могли не сообщить семье, хотя бы тайно? А. В.: О Валленберге слышали? Вот и тут в этом роде.
В последнее утро перед отлетом – моим в Москву, Сергея в Америку – мы с ним встретились у профессорского дома на Бу—бенче, Рузвельтова ул. (тогда была Бучкова), 27–29. Большой и длинный пятиэтажный дом, занимающий почти целый квартал, на нём две доски, по—русски и по—чешски, поставленные обществом Быстрова: «Настоящие дома построены в 1924–1925 гг. чешско—русским профессорским строительным и квартирным товариществом в Праге. Сие основали эмигранты из России, которых после наступления коммунистического террора новой родиной стала демократическая Чехословакия. В 1945 г. большинство жителей этих домов было захвачено НКВД в советские концлагеря. Семьи их в пятидесятые годы были насильственно выселены. Сохранилась только Православная церковь. Комитет „Они были первыми“, 1995.
Воздвигнуто с субсидией Министерства культуры Чешской республики»».
Никто из потомков прежних жильцов в профессорском доме уже не живёт, но в подвальном помещении в самом деле служит русская церковь, та самая, где Сергея крестил в 1945–м отец Михаил Васнецов, и мы с Сергеем были в это утро на литургии. Небольшое сакральное пространство в подвале теперь обычного пражского дома, было на службе человек 10, видимо, свои, постоянные прихожане. Вышли со службы, простились, Сергей подарил мне ксероксы – оттиски воспоминаний матери (Татьяна Рейзер (Бем). Украденное счастие – в двух выпусках: Russian and Ukrainian emigration in Czechoslovakia 1918–1945, sb. 2, 3, Praha, 1995) и фото из той самой газеты 1957 г., где он снят затылком перед Хрущёвым, – и разъехались в разные стороны света. Православной церковью в подвале бывшего русского профессорского дома и завершился мой пражский десятидневный сюжет июня 1998 года.
В газете под фотографией – текст по—словацки: «Всю жизнь я буду помнить этот миг – сказал счастливый пионер». И верно: помнит.
Москва, июль 1998[1030]
Русской музы близнецы[1031]
Дельвиг, Пушкин, Баратынской,
Русской музы близнецы…
Так писал уже старый Вяземский, творя поэтические «Поминки» (название стихотворения). Дельвиг первый как старший Пушкина на год, а Пушкин на тот же год Боратынского старше. Но они и умерли в том же порядке, и Вяземский называет их друг за другом в порядке своих «поминок». Так или иначе, этот порядок имён у Вяземского даёт программу двухсотлетних годовщин в наши дни. Дельвига вспомнили тихо, Пушкин гремел и занял весь прошлый год, теперь двухсотлетие Боратынского является в тени отзвучавшего только что пушкинского. Боратынский является более скромно, но, во—первых, слово это так идёт Боратынскому, это была его осознанная позиция в поэтической истории:
Отныне с рубежа на поприще гляжу —
И скромно кланяюсь прохожим.
Музу его Иван Киреевский назвал скромной красавицей. Нужно проникнуть в этимологическую глубину этого эпитета, чтобы почувствовать точность его в отношении к Боратынскому. «Скромный» связано с «кромом», огороженным внутренним местом (с ним связан и «кремль»), «укромом»: заключённый в рамки, сдержанный, ограниченный в этом смысле, но и собранный, сосредоточенный, крепкий в себе. О «скромности» в этом богатом смысле поэзии Боратынского сказал опять Киреевский – он сказал о «поэзии, сомкнутой в собственном бытии».