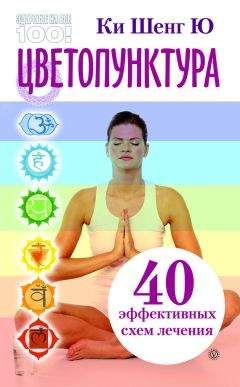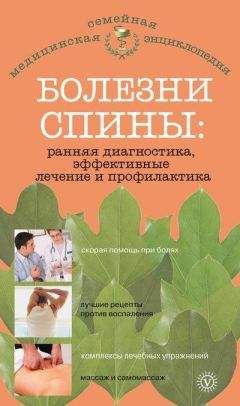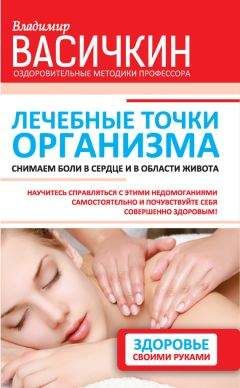Лидия Гинзбург - О психологической прозе. О литературном герое (сборник)
Художественное сочетание анализа с синтезом возможно потому, что художественный анализ в своем роде синтетичен. Исследуя характеры, поведение, обстоятельства, художник устанавливает ряды причин и следствий, он разлагает целостное явление на не видимые простым глазом элементы; он сводит одни элементы к другим или совершает замену, подстановку, открывая, например, на месте великодушного поступка тщеславие или эгоизм. Но изображение не распадается на куски. Аналитически разложенные элементы вступают между собой в новые сцепления – причинно-следственной связи, взаимодействия, противоречия. Обусловленность все больше дифференцируется. Рассказ о мире становится подробным.
Суммарность или подробность изображения мира – один из моментов, ключевых для искусства. При этом детали служат самым разным художественным целям.
В «Эстетике» Гегель говорит о Гомере: «…Он очень обстоятельно описывает жезл, скипетр, постель, доспехи, одеяния, дверные косяки, не забывает даже упомянуть о петлях, на которых вращается дверь… В настоящее время выделка и изготовление какого-нибудь средства для удовлетворения наших потребностей распадается на такое многообразие моментов фабричного и ремесленного производства, что все отдельные стороны этой обширной системы снижаются до чего-то подчиненного… В жизни же героев имеется своеобразная, более примитивная простота вещей и изобретений, и можно остановиться на их описании, поскольку все эти вещи – одинакового ранга и имеют значение, как то, в чем обнаруживается почтение к ловкости человека, его богатство, его положительный интерес, поскольку вся его жизнь не отводит его от этих дел и не вовлекает в чисто интеллектуальную сферу. Убивать быков, приготовлять их, разливать вино и т. д. есть занятие самих героев, которому они отдаются как наслаждению, как цели, между тем как у нас обед, если он не будничный, не только должен быть приправлен деликатесами, но требует также отменных застольных бесед»[351].
Итак, по Гегелю, гомеровские подробности – это непосредственное проявление жизнелюбивой силы примитивного патриархального уклада. Сознание человека на них не задерживается. Его поведение в целом соотнесено с бытовой эмпирией, но в каждом данном случае оно обусловлено вовсе не ею, а теми задачами, которые выполняют гомеровские герои, теми судьбами, которые предначертали им боги.
В своей книге «Мимесис» Эрих Ауэрбах, противопоставляя гомеровский эпос библейскому, обращает внимание на гомеровскую «пластичность» и подробность изображения: «Евриклея приносит воду и, доливая в холодную горячей, с грустью говорит о пропавшем без вести господине… Едва старушка нащупала рубец, она в радостном испуге выпустила ногу – нога упала, и вода пролилась на пол через края таза… Все это предстает перед нами обрисованным точно и четко, поэт не спешит закончить рассказ. Обе женщины изъявляют свои чувства в обстоятельных, неторопливых речах… Более чем достаточно уделяется времени и места описанию утвари, движений, жестов, описанию размеренному, ни одного звена не упускающему из виду; даже в драматический момент узнавания читателя непременно извещают, что Одиссей старую служанку, чтобы помешать ей говорить, правой рукой ухватывает за горло, а другой рукой в это время притягивает к себе»[352].
Напомню эти строки (в переводе Жуковского):
…Сияющий таз, для мытья ей служивший
Ног, принесла Эвриклея; и, свежей водою две трети
Таза наполнив, ее долила кипятком. Одиссей же
Сел к очагу; но лицом обернулся он к тени, понеже
Думал, что, за ногу взявши его, Эвриклея знакомый
Может увидеть рубец, и тогда вся откроется разом
Тайна…
…
Эту-то рану узнала старушка, ощупав руками
Ногу; отдернула руки она в изумленьи; упала
В таз, опустившись, нога; от удара ее зазвенела
Медь, покачнулся водою наполненный таз, пролилася
На пол вода…
Подробности удивительной точности. Но знаменуют они только трехмерное, чувственное восприятие мира. Они не отражаются в сознании действующих лиц и психологической функции не имеют. В архаической литературе детализация материального мира и детализация психической жизни несоотносительны. Материальный мир может быть подробным, а герой остается суммарным, потому что эмпирический мир еще не проник в механизмы обусловленности его поведения.
Человека отдаленных эпох мы и мыслим суммарно, как если бы его жизнь протекала в отвлеченных и общих очертаниях. Нам трудно себе представить, что у него тоже было существование, сплошь осознаваемое, заполненное пестротой ежеминутных физических ощущений, психических реакций, непрерывного течения мыслей.
В своем «Докладе» по поводу романа «Иосиф и его братья» Томас Манн вспоминает слова Гёте о библейской истории Иосифа: «Как много свежести в этом безыскусственном рассказе; только он кажется чересчур коротким, и появляется искушение изложить его подробнее, дорисовав все детали». Манн, по его словам, и поддался этому искушению, «воспользовавшись для этого средствами современной литературы, всеми средствами, которыми она располагает…».
«На этом сон кончился, и фараон проснулся в поту и в тревоге. Он сел, оглядел с сильно бьющимся сердцем мягко освещенную спальню и понял, что это был сон, но такой красноречивый, задевающий за живое, что его назойливость, похожая на назойливость изголодавшихся коров, заставила сновидца похолодеть. Его больше не тянуло в постель, он поднялся, надел белошерстный халат и стал расхаживать по комнате, размышляя об этом назойливом, хоть и нелепом, но до осязаемости четком виденье. Он был бы рад разбудить раба-спальника, чтобы рассказать ему этот сон, вернее, чтоб испытать, удастся ли облечь увиденное в слова. Однако он был слишком деликатен, чтобы беспокоить старика, которого заставил ждать себя до поздней ночи, и он сел в стоявшее возле кровати кресло с коровьими ножками, поплотнее закутался в свой лунно-серебристый халат и, прижавшись спиной к уголку кресла, а ноги положив на скамеечку, незаметно задремал снова».
Так ведет себя у Манна один из тех фараонов, которых мы привыкли видеть на египетских изображениях имеющими только профиль. А в Библии об этом сказано только: «И проснулся фараон, и понял, что это сон».
Манн понимал, что трехмерность кутающегося в халат молодого фараона парадоксальна. В том же «Докладе» он говорит о языке своей книги: «Это речь косвенная, стилизованная и шутливая, способствующая мнимой достоверности, очень близкая к пародии или, во всяком случае, иронизирующая, ибо применять научные методы к материалу совсем не научному, сказочному – значит заведомо иронизировать над ним…» Ирония, чувство неадекватного, в частности, рождается здесь из встречи суммарности архаического, «сказочного» материала с техникой обусловливающих подробностей, присущей роману Нового времени.
Прошло много веков, прежде чем описательная и символическая функция подробностей сменилась характерологической. У Бальзака, у Диккенса, у Гоголя и писателей гоголевской школы подробности внешнего мира соотносятся с характером персонажа и строят образ социальной среды.
Особое отношение к предметным подробностям у Пушкина. В поздней лирике Пушкина предметное слово сохраняет свою предметность, без метафорических изменений и замещений, но его смысловая емкость предметным значением не ограничена. Это слово беспредельно расширяющееся.
То же и в пушкинской прозе 30-х годов, особенно в «Пиковой даме»[353]. В «Пиковой даме» чрезвычайная скупость определений. Вещи, чувства, жесты, названные и не истолкованные, подбор называемого, образующий конфигурации, точные, как чертеж. Вещи идут к читателю, будто минуя промежуточную среду авторского сознания. Пушкин не расчленяет вещи (как позднейшие романисты XIX века), он их перечисляет. И в пушкинском тексте на единицу смысла приходится мало слов, а на единицу слова – огромный смысловой потенциал.
«Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари светились тускло; улицы были пусты». Это таинственный Петербург «Пиковой дамы». Его мир возникает то из подобных суммарных впечатлений, то из перечисления графически изолированных деталей.
«Старая графиня *** сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая коробку со шпильками, третья высокий чепец с лентами огненного цвета». Подробности здесь – средство для того пушкинского изображения исторических культур, о котором писали Г. Гуковский, В. Виноградов.
«Швейцара не было. Германн взбежал по лестнице, отворил дверь в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою в старинных, запачканных креслах». Резко проступая на повествовательном фоне, расчленяющая деталь «запачканные кресла» мгновенно возбуждает ассоциативный ряд – старое барство. Пушкинские подробности по природе своей историчны.