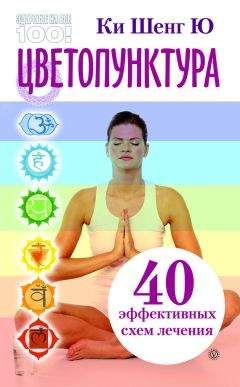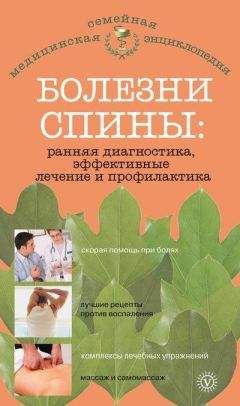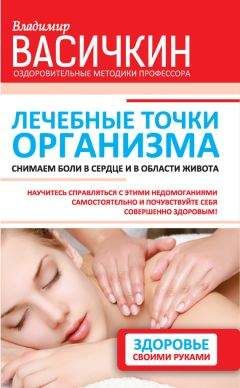Лидия Гинзбург - О психологической прозе. О литературном герое (сборник)
В «Замечательном десятилетии» Анненков непрестанно пересекается с Герценом. Касаясь (очень осторожно) семейной драмы Герцена, анализируя ее участников, Анненков создает еще один вариант характера, исследованного им в тургеневской Варваре Павловне, в Боткине. Третий вариант – это Гервег. О нем говорится как о «в высшей степени развитой, изящной и вместе холодной и эгоистически-сластолюбивой личности… Под мягкой, вкрадчивой наружностию, прикрываясь очень многосторонним, прозорливым умом, который всегда был настороже, так сказать, и опираясь на изумительную способность распознавать малейшие душевные движения человека и к ним подделываться, – чудная личность эта таила в себе сокровища эгоизма, эпикурейских склонностей и потребности лелеять и удовлетворять свои страсти чего бы то ни стоило, не заботясь об участи жертв, которые будут падать под ножом ее свирепого эгоизма»[348]. Из исходного сочетания жажды наслаждений, сластолюбия с изощренным интеллектуализмом и чувством изящного возникают свирепый эгоизм, эстетская жестокость и возникает приспособляемость, необходимая для того, чтобы заставить людей служить своим вожделениям. Здесь эти сочетания осуществляются на очень высоком уровне. Гервег, изображенный Анненковым, обладает необыкновенным образованием, развитием, наделен даром «нервного темперамента, часто разрешавшегося лирическими, вдохновенными вспышками и порывами».
У Анненкова Гервег противоречивее, чем Гервег «Былого и дум», и человечески гораздо крупнее. Гервег, полемически созданный Герценом (его не следует отождествлять с подлинным Гервегом), состоит из свойств однонаправленных: эгоизм, бытовой эпикуреизм, сластолюбие, слабонервность и проч. Не столько отдельный «психический факт», сколько эталон определенной исторической формации. «Мы не берем в расчет, что половина речей, от которых бьется наше сердце и подымается наша грудь, сделались для Европы трюизмами, фразами; мы забываем, сколько других испорченных страстей, страстей искусственных, старческих напутано в душе современного человека, принадлежащего к этой выжившей цивилизации. Он с малых лет бежит в обгонки, источен домогательством, болен завистью, самолюбием, недосягаемым эпикуреизмом, мелким эгоизмом, перед которым падает всякое отношение, всякое чувство, – ему нужна роля, позы на сцене, ему нужно во что бы то ни стало удержать место, удовлетворить своим страстям». Здесь характеристика западного «современного человека» без индивидуального остатка накладывается на характеристику Гервега. Они идентичны.
В «Былом и думах» Гервег противопоставлен одновременно Герцену и Наталье Александровне. Образ Натальи Александровны, одномерный и монолитный, – беспримесное сочетание высокого нравственного развития, чистоты, энергии духа. Но это не просто личная идеализация, а своего рода историческая символика. Наталья Александровна – идеал новой женщины; в понимании Герцена, новая женщина соединяет современные запросы ума и сердца с началом вечной женственности. В главе, посвященной вопросам брака, семьи, освобождения женщины («Раздумье по поводу затронутых вопросов»), Герцен писал: «Выпутаться женщине из этого хаоса – геройский подвиг, его совершают редкие, исключительные натуры… Какую ширину, какое человечески сильное и человечески прекрасное развитие надобно иметь женщине, чтоб перешагнуть все палисады, все частоколы, в которых она поймана! Я видел одну борьбу и одну победу…»
Анненков победу не увидел. Он увидел поражение – поражение романтизма. Романтизм же предстает Анненкову в своем психологическом качестве, осуществленным в конкретной человеческой личности. «Жена Герцена возлагала… на ответственность старых знакомых… долгую скуку прежней своей жизни, между тем как настоящей причиной этой скуки был, как скоро объяснилось, запоздалый, мечтательный и бесплодный романтизм»[349].
Исходная предпосылка поведения Натальи Александровны – душевное состояние, которое Анненков называет «пробудившейся жаждой к расширению своего существования», которое, следуя описанию Анненкова, можно также назвать жаждой эмоционального события. Из эмоциональной неудовлетворенности выводится внутренний разрыв с московским кругом друзей, жадное восприятие умственных веяний и бытовых форм западной жизни. Все это только подготовка обстановки и условий события – встречи с Гервегом. Гервег применил все средства, все свои возможности «для дела обольщения заезжей мечтательницы, для доставления себе победы над всеми запросами многотребовательной ее фантазии… Лоэнгрин со сказочных высот был перед нею налицо, и, только подойдя к нему ближе, она вдруг увидела, какой страшный образ скрывается за ангельской маской, им усвоенной…»[350]
Жажда эмоционального события встретилась с гервеговской «свирепой» жаждой наслаждения – и та и другая облеклись культурной формой романтизма. Романтическая эмоция встретилась с разрушительным правом романтической элитарности. Это коллизия двух типов романтического сознания как двух психических фактов. Тогда как Герцен понял свою семейную драму как противостояние «двух мировых колей истории». Разные принципы структурной связи – в данном случае психологический и исторический – перерабатывают один и тот же жизненный материал.
2
Вместе с принципом связи изменяется принцип противоречия – основной движущий механизм поведения литературного героя. Сюжет литературного произведения – это единство, движущееся во времени. А движение – это всегда противоречие, конфликт. На любых стадиях развития литературы герой, разрешая свои задачи, вступал в противоречие с предметным миром, общественной средой, с другим человеком, с потусторонними силами, с самим собой.
Рационализм XVII века упорядочил противоречия, еще хаотические у ренессансного человека, прояснил в них закономерность борьбы двух начал. В поэтике классицизма противоречия душевной жизни имеют формально-логическую основу; это столкновение разнонаправленных, но замкнутых единиц. Они чередуются, вытесняют, заменяют друг друга, образуют разные конфигурации, не теряя своей непроницаемости, ни твердых своих очертаний. Трагедия французского классицизма сталкивала в одном человеке две несовместимые страсти или страсть и долг. Непрерывно возобновляясь, это столкновение порождает зигзагообразное развитие состояний души – предмет тонких художественных изучений.
Бинарность присуща также и романтическому конфликту, хотя в системе романтизма значение противоречия совсем другое. Романтическое противоречие философски осмыслялось как полярность (понятие краеугольное для Шеллинга и всей романтической натурфилософии), как сосуществование противоположностей, нераздельно между собой сопряженных. В плане душевной жизни – это противоречивое единство личности, конечной и одновременно устремленной к бесконечному и сверхчувственному.
Рационалистическая поэтика строила душевную жизнь своих персонажей как чередование устремлений и противодействий (внешних и внутренних). Романтизм от противоречий отчужденной от человека страсти обратился к противоречиям целостной личности. Определяет ее противостояние бесконечного и конечного, идеала и непросветленной вещественности в разных модификациях – вплоть до социально окрашенного конфликта избранника и общества, поэта и толпы.
Рационалистическому и романтическому противоречию присущи разные философские обоснования, соответственно, и разные формы. Объединяет их двойственность, полярность, устойчивый механизм тезиса и антитезиса. Вот почему ранний реализм, прораставший из романтизма, но испытавший мощное воздействие просветительской мысли, мог как-то совместить обе традиции. Но принцип осознанного детерминизма с течением времени вносил все более глубокие изменения в структуру душевных противоречий. Из бинарных они становятся множественными. Мотивы и импульсы поведения исходят одновременно из разных жизненных сфер – исторической, социальной, биологической, предметной.
Если личность мыслится как всегда себе равная душа, то противоречия ее могут быть только иррациональны или загадочны. Это романтическая тайна, волнующая и не нуждающаяся в разгадке. Если же сознание есть движение, если человек – динамическое единство, несущее в себе все, от физиологических раздражений до высших духовных деятельностей, непрерывно отзывающееся на всевозможные возбудители, то противоречия в этом единстве не только неизбежны, но и объяснимы. Они порождают потребность в анализе. Художественным детерминизмом XIX века владеет пафос объяснения, и причинная связь – основной принцип соотношения элементов в созидаемых им структурах; тем самым познание этой связи есть эстетическое познание. Обусловленность, от самой широкой, исторической и социальной, до обусловленности мельчайших душевных движений в позднем психологическом романе, – это теперь предмет изображения, единичный и обобщенный, как всякий эстетический предмет. Аналитически изображенный процесс – это тоже образ, структура, со всей эстетической конкретностью и символикой.