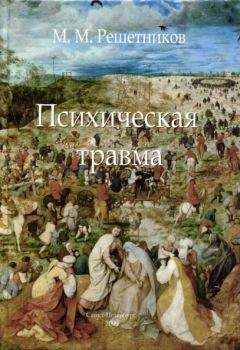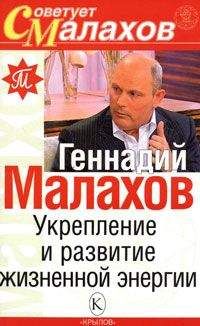Ю. Лебедев. - История русской литературы XIX века. В трех частях. Часть 1 1800-1830-е годы
В минуту последнего объяснения с княжной Мери самодовольный разум подсказывает Печорину, что никаких сердечных чувств к своей жертве он не питает: «…мысли были спокойны, голова холодна». Но в процессе объяснения прилив непознанных, неподконтрольных разуму чувств расшатывает внутренний мир Печорина: «Это становилось невыносимо: еще минута, и я бы упал к ногам ее. – „Итак, вы сами видите, – сказал я сколько мог твердым голосом и с принужденной усмешкой: – вы сами видите, что я не могу на вас жениться…“».
Разум Печорина не в силах познать всю глубину ускользающих от него чувств. И чем интенсивнее, чем дерзновеннее в герое самовластные претензии его разума, тем необратимее оказывается процесс печоринского душевного опустошения. Есть некий существенный изъян в самом качестве ума Печорина. Святитель русской церкви Тихон Задонский различал мудрость духовную и мудрость мирскую. «Духовная мудрость, – утверждал он, – во всем „разнится“ от плотской или мирской. Плотская мудрость горда, духовная смиренна». В уме Печорина воцарилась мудрость мирская, ум его гордый, самолюбивый и подчас завистливый. Сплетая сеть интриг вокруг княжны Мери, вступая с нею в продуманную плотским умом любовную игру, Печорин говорит: «А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет. Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше неспособен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие – подчинять моей воле все, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха – не есть ли первый признак и высочайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, – не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастие? Насыщенная гордость. Если б я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви».
Интеллект Печорина, как видим, перенасыщен энергией разрушительного, любоначального разума. Такой разум далеко не бескорыстен: Печорин не мыслит познания без эгоистического обладания познаваемым предметом. А потому его интеллектуальные игры с людьми приносят им лишь несчастия и горе. Страдает Вера, оскорблена в лучших чувствах княжна Мери, убит на дуэли Грушницкий. Такой исход «игр» не может не озадачить Печорина. «Неужели, думал я, мое единственное назначение на земле – разрушать чужие надежды? С тех пор, как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм, как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние. Я был необходимое лицо пятого акта; невольно я разыгрывал жалкую роль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба?»
Но причина скрывается не в судьбе, а в качестве печоринского ума, нацеленного лишь на познание низких истин и провоцирующего поэтому не лучшие инстинкты и страсти в душах вовлеченных в его «Ифы» людей. Разум Печорина, плененный сиюминутными, преходящими явлениями жизни, бескрылый разум, теряет одухотворяющие и возвышающие человека начала. Не согретый верой, этот разум осознает лишь мирскую бренность и конечность земного бытия. Он служит не жизни, а смерти. Он нацелен на познание не божественного и вечного, а смертного и тленного, эгоистического начала в мире и в человеческой душе.
Такой разум беспощаден не только к окружающим, он разрушительно действует и на самого героя, лишая его душевной цельности, раскалывая его внутреннее «я». «Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его». Получается, что жизнь сама по себе, а мысль сама по себе: сперва живу, потом мыслю или одной половиной своего «я» живу и чувствую жизнь, а другой – осмысливаю ее. Рассказывая, как ведет себя в бою Грушницкий, как он «махает шашкой, кричит и бросается вперед, зажмуря глаза», Печорин замечает: «Это что-то не русская храбрость!» То же самое можно сказать и о качестве печоринского ума: «Это что-то не русский ум!»
Русский человек, воспитанный в атмосфере отечественной духовности, не мыслил себе «ума» в отрыве от «сердца». В православной традиции не существовало противоречия между умом и сердцем, чувствами и волей. Она утверждала иное, целостное понимание личности, становление которой совершается не механическими скачками, а органически, в единстве мыслящего чувства и чувствующей мысли. Даже русская философия чужда отвлеченного, спекулятивного умозрения и близка к художественной манере постижения действительности.
Самопознание Печорина осуществляется иначе: оно выпускает чувство на свободу, а потом дает ему оценку, овладевает им и приходит к неутешительному выводу. В состоянии «рефлексии» разум и чувство действуют не в союзе, а в разрыве друг с другом. Под самовластием разума «благоуханный цвет чувства блекнет, не распустившись». Но и мысль, лишенная чувства и веры, «дробится в бесконечность, как солнечный луч в граненом хрустале». И «рука, подъятая для действия, как внезапно окаменелая, останавливается на взмахе и не ударяет», – пишет Белинский.
Такое самопознание не собирает мир в органическое целое, а дробит его на куски, не объединяет человеческую личность, а раскалывает ее. Внутренняя раздвоенность печоринского «я» становится источником постоянной боли: она подтачивает полноту человеческого чувства, а не одухотворяет его, она гасит волю, опустошает душу, погружая ее в глубокое уныние, она превращает жизнь героя в бесконечную игру, не приносящую удовлетворения и успокоения: «Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига; его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится…»
В повести «Фаталист», завершающей роман, Печорин пытается обрести смысл жизни в вере, будто бы судьба любого человека предопределена Богом и записана на небесах. Эта вера, как сказано в «Фаталисте», свойственна не только мусульманам, но разделяется и многими христианами. Сам Лермонтов почерпнул ее из английского романтизма, в котором явственно звучали отголоски протестантского учения Кальвина о предопределении. Согласно этому учению, судьбы людей предопределены непостижимой для смертных Божественной волей: «избранные» предназначены к вечному спасению, «отверженные» – к вечной гибели и мучениям. В поэме «Демон» Лермонтов скажет об «избранных» душах так:
Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их,
Они не созданы для мира,
И мир был создан не для них!
Это учение, с одной стороны, открывало соблазн для одаренной личности причислить себя к исключительной натуре, богоизбранной, свободной от любых нравственных ограничений. А с другой стороны, оно давало повод обвинить Творца в жестокости, в нелюбви к человеку – источник лермонтовского ропота и тяжбы с Богом. Бог напоминал здесь скорее ветхозаветного Иегову, чем новозаветного Христа, карающего Судию, а не доброго Пастыря. Не потому ли имя Христа почти не встречается в творчестве Лермонтова?
Тем не менее, в повести «Фаталист» и эта вера подвергается сомнению: «Все это вздор! – сказал кто-то, – где эти верные люди, видевшие список, на котором означен час нашей смерти?… И если точно есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок? почему мы должны давать отчет в наших поступках?»
Начавшийся между офицерами спор завершается рискованной игрой-экспериментом, на которую решается подзадоренный Печориным офицер Вулич. «Странная» осечка, которую дал его пистолет, приставленный к виску, как будто бы доказывает существование предопределения. Но сбывается и предчувствие Печорина, читающего на лице Вулича роковую обреченность: он гибнет в эту же ночь от руки взбесившегося пьяного казака. Наконец и сам Печорин включается в эксперимент по задержанию этого казака. Испытывая судьбу, подобно Вуличу, герой остается невредимым: пуля казака лишь сорвала эполет.
«После всего этого, как бы, кажется, не сделаться фаталистом? – спрашивает себя Печорин и тут же возражает. – Но кто знает наверное, убежден ли он в чем или нет?., и как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка!…» Что доказывает, например, счастливый исход эксперимента Вулича с выстрелом себе в висок? Существование предопределения? Или правоту Максима Максимыча, который говорит: «Эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны или не довольно крепко прижмешь пальцем»? Да и встреча Вулича с пьяным казаком могла бы пройти безболезненно. Максим Максимыч сетует: «Черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать!» Наконец, предопределение ли спасло жизнь Печорину в его собственном эксперименте? Вспомним, что Печорин очень тщательно продумал план своих действий: прыгнул в окно в тот момент, когда есаул отвлек внимание казака, нырнул вниз головой, чтобы казак промахнулся, а дым от выстрела помешал ему схватить шашку.