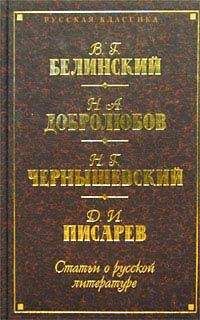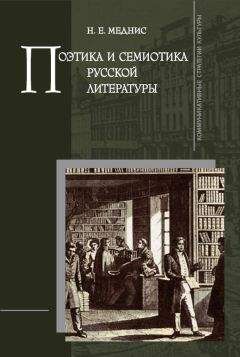Сергей Бочаров - Филологические сюжеты
Что такое храбрость? В «Набеге» задан вопрос, и определения этой сущности, готовые истины проверяются на индивидуальных фактах. Почему, отправляясь в дело, люди ведут себя беззаботно? «Что это: решимость ли, привычка ли к опасности, или необдуманность и равнодушие к жизни?» Вот набор общих мест, неспособных что—либо разрешить; внимание рассказчика направляется на живые факты: «Я с любопытством вслушивался в разговоры солдат и офицеров и внимательно всматривался в выражения их физиономий». Живое явление надо вывести из—под ярлыка, термина, слова. Таков и будет магистральный путь Толстого в искусстве – разоблачение общих мест и вскрытие за ними живой душевной действительности.
Но – Толстой не литератор, на какое—то время он теперь военный человек, и сразу после Кавказа он на театре новой войны, международной войны с европейскими государствами, в осаждённом Севастополе 1855 года. «Севастопольские рассказы» пишутся здесь, на месте событий, и в них – и прежде всего в центральном из них – «Севастополь в мае», – Толстой становится самим собой, великим писателем. Здесь продолжается исследование поведения человека на войне, начатое в кавказских рассказах, но продолжается новооткрытыми средствами внутреннего анализа, какие вскоре в статье Н. Г. Чернышевского по поводу этих рассказов («Современник». 1856. № 8) получат навсегда отныне связанное с Толстым выразительное название – «диалектика души». Это – открытие за разделяющими людей во внешней жизни сословными и личными различиями некоей общей для всех стихии внутренней жизни; в анализе состояний Михайлова и Праскухина перед крутящейся бомбой – она сейчас убьёт одного из них – открытие это обнаружилось ярче всего: эпизод, поразивший читателей—современников. Найдена здесь и собственная эпическая позиция автора над персонажами, позволяющая ему открыто видеть душу каждого, найден особый толстовский властный голос автора – «голос уже не постороннего (как в кавказских вещах, где анализ шёл от стоящего несколько в стороне рассказчика), а потустороннего существа», – как сказал об этой новой авторской позиции крупнейший исследователь Толстого Б. М. Эйхенбаум. «Люди как реки, – будет сказано уже старым писателем в „Воскресении“, – вода во всех одинакая и везде одна и та же…», и «каждый носит в себе зачатки всех свойств людских». Для всего дальнейшего творчества найдены в севастопольских рассказах положительные основы.
«Казаками», писавшимися много лет и напечатанными в 1863 г., заканчивается первое литературное толстовское десятилетие. Толстой накануне «Войны и мира» – но он по—прежнему не литератор. Он – мировой посредник в своем Крапивенском уезде после крестьянской реформы, но главное – он педагог в устроенной им у себя в Ясной Поляне школе для крестьянских детей. Это для него и практическая работа, и философское дело: он верит в «великое слово» Руссо о природном совершенстве человека и в ребёнка как «первообраз гармонии» – и в школе для детей он прозревает «модель» (как назвали бы это сегодня) иного, утопического общественного устройства. В эти годы (1859–1862) педагогические занятия и проблемы для него гораздо важнее литературы – и это будет далее у него повторяться: в 70–е годы новый прилив педагогической активности будет перебивать его работу над «Анной Карениной» и мешать ей. Издание сочинений Толстого, хотя бы и такое неполное, как настоящий четырёхтомник, не будет достаточно представительным без этих его интересов – и в 4–м томе читатель найдет парадоксальную по—толстовски статью «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» (1862).
Но – Толстой накануне «Войны и мира». Создание этой книги составит вторую его эпоху и займёт все 60–е годы. Это счастливая вершина творчества Толстого и, быть может, всей русской литературы. Книга о славном событии русской истории, книга великого содержания и единственного даже в нашей литературе художественного богатства. Книга, которую он назвал («без ложной скромности») своей «Илиадой». Единственный не только в нашей, но и во всей европейской литературе нового времени роман, достигающий в самом деле достоинства эпопеи. Книга, прежде всего и больше всего побуждающая и вдохновляющая нас «полюблять жизнь», по слову автора – этого он и хотел от читателей «Войны и мира»; он писал в те же годы, когда создавалась книга: «Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех её проявлениях. Ежели бы мне сказали, что я могу написать роман, которым я неоспоримо установлю кажущееся мне верным воззрение на все социальные вопросы, я бы не посвятил и двух часов труда на такой роман, но ежели бы мне сказали, что то, что я напишу, будут читать теперешние дети лет через 20 и будут над ним плакать и смеяться и полюблять жизнь, я бы посвятил ему всю свою жизнь и все свои силы».
Но уже через несколько лет по окончании книги Толстой говорит о ней с раздражением и уверяет, что такой «дребедени многословной» больше писать не будет. Дальнейший путь Толстого – путь от «Войны и мира», от её избыточного, артистического роскошества к суровой и сдержанной простоте изложения, которой он ещё в яснополянской школе учился «у крестьянских ребят» и к которой он сам обращается в рассказах для крестьянских ребят (вернее, для всех ребят, «от царских до мужицких», – объяснял он в одном письме в начале 1872 г.), – в «Азбуке», книге для чтения, мысль о которой приходит вместе с окончанием «Войны и мира», Толстой добился чего хотел: эти его образцы дошли и до нашего детства и до детства наших детей – коротенькая «Акула» или более сложный, но тоже очень простой «Кавказский пленник». Десятью годами позже, в 80–е годы, уже не детские, а народные рассказы Толстого станут вершиной такого его – простого искусства.
Он будет осуждать свои произведения, «не общедоступные по форме», но не перестанет их создавать. Как всем известно, он оставил нам три романа – и вот, наблюдая за тем, как каждый из них построен, их композицию, их структуру, мы наблюдаем отложившийся в этих структурных формах путь художника. «Война и мир» – это художественный простор, растекающееся вширь бытиё; разнохарактерные образы и мотивы – война и мир, народные движения и домашний быт – представляются такими самодовлеющими, раскинулись на пространстве книги так свободно и вольно, как это уже не повторится далее у Толстого. «Войну и мир» он не хотел называть романом по европейским канонам этого жанра, «Анна Каренина» – это «именно роман, первый в моей жизни». «Анна Каренина» – это архитектура, именно ею здесь гордился Толстой: «…своды сведены так, что нельзя и заметить, где замок… Связь постройки сделана не на фабуле и не на отношениях (знакомстве) лиц, а на внутренней связи», – так он отвечал на недоумение, что в романе видны два сюжета, не имеющие видимой связи, и центральные лица этих сюжетов – Анна и Лёвин – единственный раз, уже ближе к концу романа, встречаются. Однако «внутренняя связь» параллельных сюжетов тем напряжённее и интенсивнее – гораздо более интенсивна, чем экстенсивная организация многоразличных связей «Войны и мира». Сомнения и искания Лёвина обращены на то, от чего происходит – на глубине – трагедия Анны. После вольного простора эпопеи двуцентренный мир второго романа более строго и напряжённо организован.
То же новое напряжение выступает и в характере душевного анализа. Мы воспользуемся одним наблюдением Константина Леонтьева из великолепного его критического этюда «Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л. Н. Толстого» (1890). Леонтьев заметил, что многие психологические наблюдения автора за героями в «Войне и мире» кажутся бесцельными, никуда не ведут, необходимо не связаны с ходом дела, с движением фабулы. И это так: но это здесь создаёт ощущение эпоса, создаёт простор вокруг всякого частного действия. Не то во втором романе: здесь гораздо теснее связаны душевные движения с неминуемым следствием, из него вытекающим. Леонтьев единственный обратил внимание на такую деталь, что Вронский, уезжая от Анны на скачки и садясь в коляску, залюбовался на мгновение переливающимся на солнце роем мошек, «вившихся над потными лошадьми» (ч. 2, XXIV). «Вронский вовсе не мечтатель; он ничуть не расположен долго задумываться о чём—то, рассеиваться чем—то. Он спешит, к тому же, на скачку (…) Признаюсь, что, читая это в первый раз, я подумал, что это одна из тех описательных заметок Толстого, которые ни к чему не ведут, анализ для анализа, заметка для заметки». Но, читая дальше, Леонтьев понял оправданность этой детали и дал ей тонкое объяснение. Только что Анна сказала Вронскому о своей беременности, с которой в их связь входит что—то очень серьёзное; он и счастлив, и растревожен, эта взволнованность входит, рассеивая и размагничивая, в напряжение, уже бывшее в нём перед спортивной борьбой. Необычное состояние это сказывается как в «расположении не совсем вовремя засмотреться на мошек», так и скоро в неловком движении, которым на скачках он переломит спину любимой лошади.