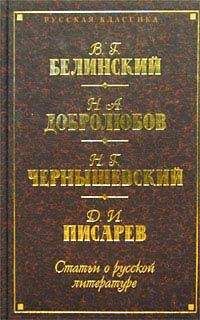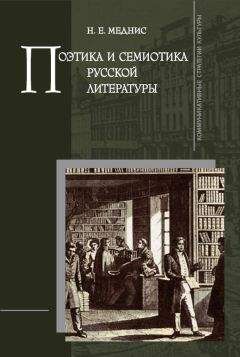Сергей Бочаров - Филологические сюжеты
Актёрское чтение – это разыгрывание произведения в каждой отдельной его части: прежде всего играются действующие лица, но также и описания, пейзаж, философские рассуждения и т. д. Такой исполнитель ищет в произведении «образы» и их играет. Происходит инсценировка повествовательного текста, в котором как раз игнорируется всё повествовательное; оно становится как бы ремаркой к изолированным диалогам персонажей; «повествовательная часть докладывается, а каждое из действующих лиц играется вне ощущения образа рассказчика» (22). Напротив, чтец исходит именно из того, что отличает повествовательное произведение от драмы. Если актёр по природе своей играет действующее лицо, то чтец соответствует автору. Свое кредо чтеца наиболее выпукло Шварц формулирует в следующих словах:
«Как должен я изобразить действующее лицо, даже если ставлю задачей передать его прямую речь? Следует играть рассказчика, который хочет изобразить прямую речь действующего лица, но не пытаться сыграть данное действующее лицо. Иначе говоря, я должен изобразить рассказчика, изображающего действующее лицо» (21–22).
Это было сказано в 1935 году, и чёткости постановки задачи должна позавидовать теория литературы. Постановка вопроса, очевидно, близкая положениям М. Бахтина об изображающей и изображённой речи в художественной прозе. Определения Шварца были самостоятельно получены из практики повседневного общения с аудиторией, и от этого та конкретность, наглядность, с какой нам показаны эти ступени, вводящие нас в повествовательную структуру. «Специфически „актёрская“ ошибка заключается в том, что взамен поисков образа рассказчика читающий актёр ищет образы отдельных действующих лиц и за ними утрачивает целое» (22). Чтец, напротив, ищет единый образ рассказчика (автора) и уже сквозь его отношение находит отдельные образы персонажей и слышит их речи. В чтеце не умер актёр, но он подчинился «говорящему писателю» и «критику—интерпретатору». Например, в «Певцах» исполнитель может эффектно сыграть бытовой разговор пьяного Обалдуя и будет иметь успех у публики. Но Шварц в своей партитуре тургеневского рассказа советует лишь «некоторую осторожную имитацию пьяной дикции. Граница имитации определяется образом рассказчика, общим культурным и даже изысканным стилем его речи» (31). Вообще любое «изображение» действующего лица и прямой речи у чтеца имеет границу (которую в каждом случае его слух, его интуиция должны рассчитать): «изображение» не может «замкнуться», чтобы не произошло разрыва с повествованием и с позицией рассказчика.
Это отношение рассказчика Шварц позволяет почувствовать, когда изображаемую прямую речь персонажа намёком переводит отчасти в интонацию косвенной речи и таким образом подаёт её несколько (насколько нужно в каждом случае) со стороны. Особую трудность для исполнения представляют современные сложные формы прозаической речи, в которой одновременно совмещаются в каждом слове две точки зрения – героя и автора (это относится в особенности к несобственной прямой речи). Например, размышление о судьбах крестьян от имени Чичикова. «В этой части текста Чичиков и Гоголь так сливаются, что их трудно разграничить. Стоит сделать нажим в сторону Чичикова – исчезает гоголевская лирика; сделаешь нажим в сторону Гоголя – исчезает Чичиков, исчезает ощущение бытовых деталей» (153–154). Исполнитель должен «ходить по канату», не позволяя себе неверного шага; ведь он действительно должен в голосе совместить и Чичикова, и Гоголя и в то же время их не смешать.
Возможная ли это задача для человеческого голоса? В. Воло—шинов считал, что «самое развитие несобственной прямой речи связано с переходом больших прозаических жанров на немой регистр. Только это онемение прозы сделало возможным ту мно—гопланность и непередаваемую голосом сложность интонационных структур, которые столь характерны для новой литературы».[1020] В то время, как это было написано, как раз шло становление новой школы художественного чтения (Закушняк, Шварц, Яхонтов), которая самим существованием своим как будто оспаривала этот теоретический вывод. Шварц стремился именно голосом передать «сложность интонационных структур» классической прозы (недаром он, в отличие от Закушняка, не любил работать над переводами, «лишёнными литературно—интонационной первородности»). Чтобы расслышать самому и донести до аудитории эту «неслышную» сложность, он добивался скупости в исполнении; сопоставим с цитированными словами В. Волоши—нова то, что Шварц говорил о плодотворности чтения «в скромном регистре». Новое искусство шло навстречу наиболее ценному направлению в теоретической мысли, которая со своей стороны не случайно в процессе анализа вопросов поэтики и стилистики приходила к проблеме звукового воплощения сложных («двуликих» – в терминологии В. Волошинова) форм современной литературной речи. Такая проблема ставится в конце книги В. Волошинова; позволим себе ещё одну выписку – читатель увидит, насколько она уместна в этой рецензии:
«В каких случаях и в каких пределах возможно разыгрывание героя? Под абсолютным разыгрыванием мы понимаем не только перемену экспрессивной интонации – перемену, возможную и в пределах одного голоса, одного сознания, – но и перемену голоса в смысле всей совокупности индивидуализую—щих его черт, перемену лица (т. е. маски) в смысле совокупности всех индивидуализующих мимику и жестикуляцию черт, наконец, совершенное замыкание в себе этого голоса и этого лица на протяжении всей разыгрываемой роли. Ведь в этот замкнутый индивидуальный мир уже не смогут проникнуть и переплеснуться авторские интонации. В результате замкнутости чужого голоса и чужого лица невозможна никакая постепенность в переходе от авторского контекста к чужой речи и от него к авторскому контексту. Чужая речь начнёт звучать как в драме, где нет объемлющего контекста и где репликам героя противостоят грамматически разобщённые с ним реплики другого героя. Из всего этого с необходимостью вытекает, что абсолютное разыгрывание чужой речи при чтении вслух художественной прозы допустимо лишь в редчайших случаях. Иначе неизбежен конфликт с основными художественными заданиями контекста. Но возможно частичное разыгрывание (без перевоплощения), позволяющее делать постепенные интонационные переходы между авторским контекстом и чужой речью, а в иных случаях, при наличии двуликих модификаций, прямо совмещать в одном голосе все интонации».[1021]
Существуют теоретические проблемы, которые кажутся отвлечёнными, замкнутыми в себе, – и существуют простые читатели, имеющие дело прямо с книгой писателя помимо всяких проблем. Действительно ли процесс их чтения никак не связан с теоретическими проблемами? Однако умеем ли мы читать? Разве не так усваивает литературу простодушный читатель: воспринимаются части, детали, отдельные «образы», но не воспринимается целое; мы знакомимся с Коробочкой и Ноздрёвым, но не воспринимаем в полном объеме Гоголя. Не потому ли Шварц видел такое зло в манере разыгрывания литературного текста, что она как раз рассчитана на читателя примитивного? В деятельности чтеца, обращённой к широкой аудитории, совершается переход от теории к практике и выясняется живая актуальность сухой теории. Антон Шварц стремился в слушателях пробудить внутренний слух, более чуткий и тонкий, соответствующий содержанию настоящей литературы. «Это придаёт всей книге особый моральный и общественный смысл, как всякая попытка приблизиться к истине».[1022]
1969
Добавление 2006 г
К тому, что сказано в книге А. Шварца об исполнителе, устным чтением самим по себе анализирующем и интерпретирующем читаемый текст, – воспоминание С. С. Аверинцева:
«Если можно, расскажу вещь немного странную. Когда в конце 60–х годов мне случилось переводить Гёльдерлина, я дошёл до набросков той поры, когда к нему уже подступало безумие. Это временами были очень тёмные по смыслу наброски, и при том фрагментарные, с внутренними разрывами и лакунами. Но ведь для того чтобы переводить, я должен понять, что значило каждое слово для самого поэта и что должно было лечь по его замыслу в пустоты, оставшиеся пустотами! Особенно я маялся с фрагментом, озаглавленным „Титаны“. Отчаявшись, я прибег к помощи моего друга—германиста, (…) – Александра Викторовича Михайлова, обратившись к нему со слёзной просьбой истолковать „Титанов“. Он пришёл ко мне, сел за стол, попросил книгу, неторопливо раскрыл её на нужном месте, неторопливо прочитал фрагмент – без выражения, то есть совсем не так, как читают стихи актёры, но очень строго, сосредоточенно и с полным подчинением голоса внутренней музыке стихотворения, принуждая слушающего тоже сосредоточиться. После этого он спросил меня, по—прежнему ли стихотворение мне непонятно. С глубоким удивлением я должен был сознаться, что могу приступать к переводу».