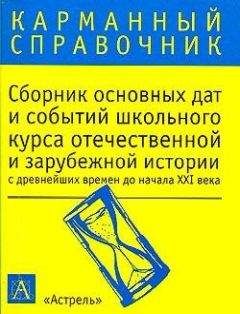Коллектив авторов - Литература в зеркале медиа. Часть II
Со стремительным увеличением источников звучаний, каналов и благодаря их яростной борьбе за приоритет, – постоянное выведение в эфир, крупнопланово и равнозначно, все большего количества и разнообразия аудиоматериалов уравнивает их в ценностном отношении. И, как все мы наблюдаем, естественно, эта унификация на самом деле увеличивает значение «первопланового», более просто воспринимаемого и самого поверхностно-громкого – в ущерб глубокому, сокрытому, требующему пристального вслушивания. Причем производит это, со свойственной медийной среде, своего рода БЛИЗОРУКОЙ слуховой «оптикой», несмотря на трансляцию на далекие расстояния (что далее произойдет и с ценностной «оптикой» визуальных медиа, направляемых к массовой аудитории).
Если в художественных литературных текстах мы встречались с прозрениями, в них отметим противоположное вышесказанному: некую оптику ДАЛЬНОЗОРКОСТИ по отношению к еще и не развитому, не систематическому в России функционированию радио. Предощущаемое, воображаемое, представляемое как воплощение чаяний и надежд – это медиа виделось также источником страхов и тяжких предчувствий. Радио – в фантазиях и прозрениях мастеров словесности – воплотило некоторые черты и особенности других будущих сфер СМК: телевидения, развитой звукозаписи, интернета, а в целом, специфики медийной среды с ее противоречивыми интенциями. И – угрозы тотального управления людьми.
Сумма этих прозрений звучит разноголосо: утопически-оптимистично, подчас до восторженности, и – с беспощадной горестью, мрачно-антиутопически.
А в монологе из романа Гессе находим диалектическую связь двух разнонаправленных подходов к явлению.
Позже Т. В. Адорно будет утверждать, что «публика» не имеет право на культурный запрос, не может и не должна требовать того, что она знает и «хочет». Исследователь полностью отрицал сервилистскую политику медиа, мечтая о такой аудитории, в которой будет воспитано «сопротивление продаже». Но ранее другой великий немецкоязычный литератор, Гессе, выразительно описал стремление к иной утопии. Он взывал к будущему слушателю и ценителю полнозвучия жизни, способному за внешним громыханием, нагромождением хаоса, энтропии, расслышать истинную гармонию «радиомузыки жизни».
Он жаждал своей Утопии – полифонической и разрастающейся в пространственных измерениях: так и в просыпающемся тонком слухе существа, во многом дикого, «степного волка», некто «Моцарт» – символ вольного художника-каменщика нового здания человечества, – используя рычаги медиа, пробует пробуждать умение «серьезно относиться к тому, что заслуживает серьезного отношениья, и смеяться над прочим».
Анна Новикова, Оксана Тимофеева. Экранные герои в контексте литературной традиции: от кино к видеоиграм
Изменения в культуре, действительные или мнимые, являются сегодня одним из серьезнейших страхов интеллектуалов во всем мире. Эти изменения принято связывать с технологическим детерминизмом, спецификой цифровой или сетевой культуры и т. д. От них ожидают конца книжной культуры и разрушения Галактики Гуттенберга, разрыва традиций и отказа от ценностей эпохи Просвещения и т. д.
Однако нам представляется, что новые технологии на самом деле не имеют такой всесильной власти над культурными процессами. Они не меняют в корне фундаментальных траекторий развития, а лишь стимулируют выход на новые витки. Позволяют через отрицание прежнего двигаться к новому, на следующем этапе возвращаясь к истокам. Поскольку скорость прохождения этих этапов сегодня существенно увеличилась, одно поколение успевает увидеть не один, а несколько витков, удостоверившись в неизбежности повторений.
Сегодня мы, на примере цифровой культуры, можем наблюдать те же явления взаимного влияния «старых» и «новых» искусств: заимствования жанров и приемов коммуникации со зрителем и т.д., которые были описаны в середине ХХ века применительно к формированию отношений между традиционными искусствами и техническими (фотографией, кино, радио и телевидением).
Сегодня цифровые медиа, в свою очередь, «демонизируются» как несущие разрушение или, напротив, идеализируются, как обещающие спасение и переход в новый прекрасный мир. И то, и другое, на наш взгляд, не имеет под собой серьезных оснований. Несмотря на различие носителей, технологических платформ и связанных с особенностями техники коммуникационных возможностей, новые медиа сохраняют преемственность по отношению к классической, в частности, литературной традиции в большом количестве творческих и смысловых вопросов. В рамках данной статьи мы проиллюстрируем эту преемственность на примере одного из ключевых элементов литературной традиции – образа «литературного героя».
Мы выбираем именно этот объект для исследования, потому что он был предметом активнейшей полемики во второй половине ХХ века. Термин «смерть субъекта», вошедший в оборот после работ Фуко84 и Барта85 и развивавшийся в контексте философии постмодернизма, обозначал проблему исчезновения из литературы социально детерминированного субъекта дюркгеймовского типа. Однако, позже, в рамках позднего постмодернизма (или After-postmodernism), философы заговорили о «воскрешения субъекта», о кризисе его идентификации86 и кризисе судьбы как психологического феномена, основанного на целостном восприятии субъектом своей жизни как конституированной биографии.
Кроме философского понимания литературного героя как субъекта, нам важно литературоведческое понимание, предложенное, в частности, в книге Л. Гинзбург «О литературном герое»87. Для нее герой – завершенный персонаж произведения, обладающий полноценным бытием. По мнению Гинзбург, герой каждой литературной эпохи создается по «заданной формуле» (термин Л. Гинзбург), он выступает носителем определенной системы черт, качеств и стоит между читателем и миром, который изображен автором, донося до читателя авторский замысел. Объектом исследования Гинзбург, в частности, является процесс перехода литературы от архаичной формализации персонажей, создаваемых по формульной логике, к скрытой формализации: «Литературная эволюция отмечена переходами от открытого, подчеркнутого существования типологических формул к существованию скрытому или приглушенному. В этом смысле можно говорить о процессах формализации и процессах деформализации литературы. Эти определения отнюдь не обязательно сопровождать положительной или отрицательной оценкой. И в том и в другом ключе возникали великие творения словесного искусства»88.
По нашем мнению, размышления Л. Гинзбург о литературном герое на определенном этапе эстетической зрелости технических медиа могу быть перенесены на киногероев, героев телевизионных сериалов, а также на героев видеоигр. Процесс эволюции героев экранных зрелищ от формульно-клишированных к «деформализованным» мы можем наблюдать во всех экранных искусствах.
В качестве иллюстрации этой мысли нам кажется интересным сравнить несколько фильмов, главными героями которых являются ученые. Этот тип персонажей привлекателен для нас потому, что, как нам кажется, в культуре ХХ века занимает особое место, так как наиболее полно воплощает в себе того самого «социально детерминированного субъекта дюркгеймовского типа», о литературной судьбе которого так беспокоились Фуко и Барт. Следуя традициям эпохи Просвещения, ученый материализует в своей судьбе идеи прогресса, ставшие одними из важнейших для XIX и ХХ века в целом, для русской литературы в частности, а также для идеологии, сделавшей на эти идеи и на этот образ ставку в социокультурном эксперименте по воспитанию «человека будущего» – советского человека.
Литературная традиция XIX – XX века нашла свое отражение в одной из первых пропагандистских кинокартин послереволюционного времени – фильме «Уплотнение» (1918), снятом по сценарию наркома просвещения А. Луначарского и А. Пантелеева. Фильм повествует о том, как в порядке уплотнения в одну из комнат профессорской квартиры вселяют слесаря с дочерью. Главный герой – эталон интеллигента, классического профессора. Сухопарый, седой, с породистым лицом, с бородкой-клинышком, в пенсне – именно таким станет канон изображение интеллигента «из бывших» в советском кино. Это образ перекликается и с хрестоматийными портретами А.П.Чехова, и с памятником М. И. Калинину (скульптор М. Г. Манизер, архитектор А. К. Барутчев) на площади Калинина в Санкт-Петербурге. Таким играет Алексей Баталов профессора Самохина в фильме «Внимание, черепаха!» (1969), приват-доцента Петроградского университета Сергея Голубкова в фильме «Бег» (1970), Алексея Красина в фильме «Красный дипломат. Страницы жизни Леонида Красина» (1971). На этот же канон ориентируется Евгений Евстигнеев, играя профессора Преображенского в фильме «Собачье сердце» (1988). Именно этот образ будет представлен в видеоиграх «HalfLife» (1998) и «Assassin’s Creed» (2007), о которых речь пойдет ниже.