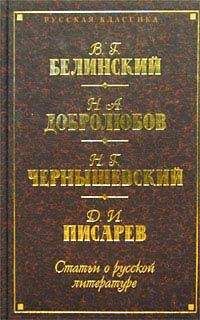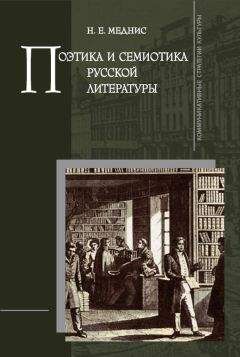Сергей Бочаров - Филологические сюжеты
Наверное, это главное, сокровенное, сердцевинное слово в философском языке самого Топорова, если читать внимательно корпус его, особенно поздних, текстов. Он открыл в нашей культуре такое сверхявление, как её петербургский текст – вернее же будет сказать, что он создал для нас его, эту мысленную реальность, сотворил и выстроил собственный петербургский текст в большом цикле работ, запечатлевших то, что сам назвал в одной из них своим полувековым петербургским «романом»[965] – и исследовательским, и душевным. Роман великого филолога с великим городом породил великую идею петербургского текста русской литературы. И вот петербургский текст описан во всей его «не сводимой к единству антитетичности и антиномичности»,[966] во всей его мучительности и предельной катастрофичности – и, описанный так, парадоксальным, кажется, образом, он описан как текст спасения. «…Ибо, как сказано, где о – пасность, там и с – пасение» – корнесловит исследователь, обосновывая высокий трагический смысл страдания в переживании Петербурга русской культурой[967] (Его страдание под ледяной корой, Его страдание больное, по Аполлону Григорьеву).
Но и не только в книге о петербургском тексте, а и в других работах автора мы встретим этот его афоризм с опасностью и спасением. И с отсылкой к первоисточнику – к стихотворению Гёльдерлина «Патмос», но в собственной – концептуально—собственной – редакции перевода, позволяющей корнесловить по—русски и строить свой афоризм. Два ключевые слова по—русски, в отличие от оригинала,[968] – однокоренные слова. «Именно русский язык открывает, казалось бы, парадоксальную связь высшей угрозы (о – пас—ность) и конечного избавления от неё как высшего блага (с – пас—ение)…».[969] Русифицированный Гёльдер—лин как ключевое место философского образа мира, переходящее из одного топоровского текста в другой.
Спасение – ключевое слово и позднего топоровского литературоведения (если условно определить его так). Грех Гоголя против Плюшкина – в роковой неспособности «увидеть человека в своем герое»[970] и тем самым отказ художника героя «спасти» (при этом исследователь словно бы забывает о стратегическом замысле Гоголя спасти Плюшкина, вместе с Чичиковым – именно их двоих – в третьем томе поэмы,[971] но тем самым этот утопический замысел художника, забыв о нём, подтверждает). Несколько раз в топоровских текстах возникает цитата из «Фауста», опрокинутая в нашу литературу: на приговор её герою (Плюшкину или Прохарчину – приговор от «низкой жизни» или даже от самого художника Гоголя) – Er ist gerichtet! – ответствует «Голос сверху» (от художника Достоевского и филолога Топорова) – Er ist gerettet!: «ситуация, не раз „разыгрываемая“ в русской литературе».[972] Вслед за и вместе с художником филолог берёт на себя задачу высшую – и кого же спасает он своим высшим судом? Самых малых, «последних» в нашей литературе. И господин Прохарчин, и «прореха на человечестве» оказываются у Топорова достойны цитаты из «Фауста».
О «Господине Прохарчине» В. Н. Топоров написал книгу (книгу, а не статью[973]). Кто так пристально прочитал и, главное, полюбил эту дикую, «обделённую счастьем повесть», не возбудившую «любознательности и в современных исследователях»[974] – ведь можно это за Иннокентием Анненским повторить и сегодня? Только двое они – поэт—критик Анненский и филолог—поэт Топоров.
Итак, не хватает определений – может быть, популярная «культурология»? Но в упомянутой вступительной к Мейеру сказано: «Ни культура, ни история в этих условиях совершающейся катастрофы не могут рассматриваться как полностью надёжные точки опоры, как вехи пути: и культура, и история могут не пережить катастрофы…»[975] Философия спасения имеет ориентир поверх истории и культуры.
Однако мысль, которая чувствует себя «в условиях катастрофы», пребывает в истории – в своей отечественной истории прежде всего. История – большая отдельная тема в умственном космосе Топорова. Мысль пребывает в истории, однако в ней не умещается; мысль помещается по преимуществу на границах истории (истории как науки, но, далее, и самой истории как человеческого процесса), заглядывая за оба её предела – в область космологического («О космологических источниках раннеисто—рических описаний»[976]), но и в непредставимое иное будущее состояние («Возникает вопрос – где границы истории (и исторического мышления) в будущем?»[977]); более того – сама история «знает о своих границах (…) и о том, что она сама, история, лишь мост между тем, что было до неё и будет после неё».[978] Современный учёный филолог заглядывает, по отношению к человеческой истории, в вопросы, близкие к тем, в которые, по отношению к самому человеку, заглядывали Достоевский («на земле человек в состоянии переходном», 1864[979]) и Ницше (человек – это мост, переход).
История и поэзия с двух сторон ведут к вопросу об историзме литературы, поэзии («Об историзме Ахматовой», 1988). Поэзия «историчнее» различных идеологий: они идеологизируют «шумы времени», тогда как «верность времени (а через него и „историческому“)» у поэта, «вопреки распространённому заблуждению, не в чрезвычайном внимании к нему самому, не в попытках непременно угадать его высшие смыслы, не в изощрённой рефлексии по поводу времени, но в таком органическом и полном слиянии с ним, когда оно, по крайней мере на уровне сознания, становится неразличимым и не отделимым от Я поэта…»[980] Оттого роман и лирика в XIX веке – историчнейшие источники по русской жизни, превосходящие «собственно исторические», «„объективные“ документы эпохи».[981] Историзм Ахматовой – в том, как её поэзия, уже ранняя, фиксирует даже не шумы времени, а «минимальные шорохи времени, о которых ещё не ведает сама история».[982]
Переход к истории состоялся, когда время и пространство «из участников космологической драмы превратились в рамки» исторического процесса.[983] Время и в особенности пространство – также самостоятельные темы большого топоровского текста—объёма. Понятия художественного времени и пространства сравнительно недавно возникли в литературной теории и поэтике – и возникли именно не как характеристики—рамки, но как внутренние силы того, что стало видеться как художественный мир, как интенсивные, не экстенсивные силы такого мира. По Топорову можно сказать, что они – сохраняющиеся внутри назревшего историзма искусства силы космологические; и Топоров рассматривает «чуткое и отзывчивое» пространство «Преступления и наказания» в связи с архаическими моделями и заключает: «Как и в космологической схеме мифопоэтических традиций, пространство и время не просто рамка (или пассивный фон), внутри которой развёртывается действие; они активны (и, следовательно, определяют поведение героя) и в этом смысле сопоставимы в известной степени с сюжетом».[984] В художественном пространстве, более или менее, но сохраняется энергия пространства мифопоэтического, и оно возводится к основаниям более крупным. Речь идёт о способности человека строить пространство («пространство созерцания») в сознании, которое само непространственно: «Это – поразительное приспособление сознания к внешнему миру» – цитирует автор Николая Гартмана, обращаясь от философа ХХ века к «феномену Батенькова», проведшего более двадцати лет в одиночной камере на пространстве в нескольких шагах (из поэмы Батенькова) и вынесшего из этого сверхчеловеческого опыта такие представления, предвещавшие будущие теоретические, в том числе поэтологические понятия, как «пространство мысли» и «пространства веры и упования» (определения в письмах Батенькова).[985] Взгляни на лик холодный сей… – обращает на Батенькова исследователь строку Баратынского,[986] и примеры подобного единения исследования с поэтическим словом, какие в его работах встречаются постоянно, очень в научном стиле В. Н. Топорова. По убеждению и по выбору в жизни он тщательный, строгий учёный, но у него всегда стихотворная строчка рядом с научным тезисом – не как украшение или же иллюстрация, но как точный по—своему аргумент. Стихотворная строчка, прописанная его особенным топоровским курсивом, чтобы она прозвучала. Когда же речь заходит об особенной петербургской историософии, то оказывается, что её «мастера» – «поэты по преимуществу», и имена поэтов – Пушкина, Аполлона Григорьева, Блока, Волошина, Гумилёва, Ахматовой, Мандельштама, Кушнера – действуют на правах таких «мастеров» в союзе с именами Карамзина, Георгия Федотова и Даниила Андреева, осуществляя в петербургском тексте «миссию вестничества».[987]